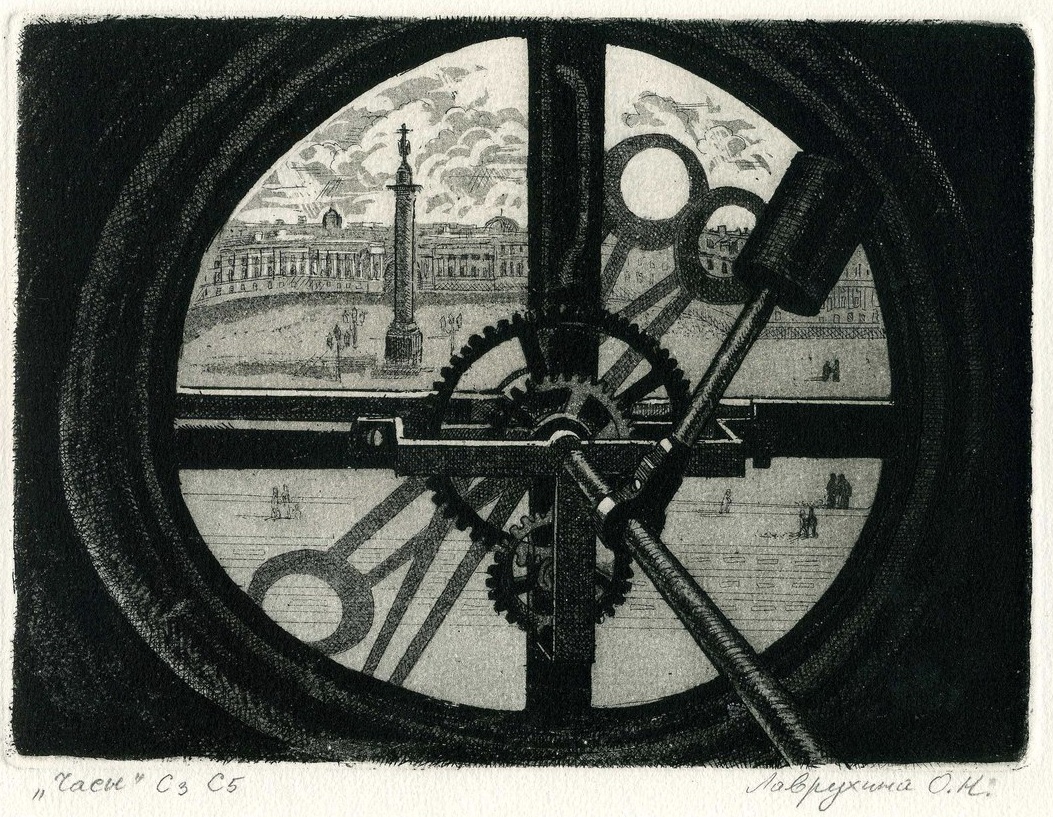***
Слову, как битве, себя без остатка отдав,
выйду в тираж с покаянной улыбкой придурка.
Смотрит квартал, как пускающий кровь волкодав.
Ветер свистит, словно шапку срывающий урка.
Страшно? Нисколько. Привычный почти антураж…
Средь вавилонских повсюду натыканных башен
страшен народ, равнодушно идущий в тираж.
Вот уж воистину взором мутнеющим страшен.
Век этот страшен. Ушанку надвинув до глаз,
так и пойду мимо Пскова, Тамбова, Таити…
Дщи Вавилонская, радуйся! – выйду от вас
и отряхну со ступней своих прах ваш. Возьмите!
Тверже гранита с шершавыми гранями стих.
Тянет к земле неподъемная тяжесть глагола…
Дщи Вавилона, о камень младенцев твоих
я разбивал, словно волны о надолбы мола.
***
Все пишешь и пишешь, и стих ставишь плотно к стиху,
уже не по джонкам скользишь, а плетешься с одышкой.
И носишь каракуль… А помнишь, на рыбьем меху
являлся кухарке с любовью в тетрадке под мышкой?
О, где ты, любви за копейку великая дрожь!
Я помню, она, торопясь, распускала косицу,
а после синицу сжимала… Синицу не трожь!
Поскольку теперь и журавль нам едва ли простится…
Ау, поцелуи! И платья в горошек, где вы?
В каракуле тяжком отныне сиди и не каркай…
А чудно бывало, на рыбьем меху, у Невы
немножечко спятить под ручку с кухаркою жаркой?
Как хочется жить с облаками огромной семьей!
Утюжить туманную даль вдоль канавки Лебяжьей
и бисер метать горячо перед каждой свиньей,
в кухарку влюбившись и в душу кухаркину даже.
***
Ни веры, ни боли «нема»
на сердце с печатью неволи…
Душа под наркозом. Зима –
лишь средство забыться, не боле.
Толпы отмороженной пар,
замерзшая кариатида…
Как будто погиб кочегар –
такая вокруг Антарктида.
Не ринется в небо душа –
не выкинет глупость ребячью.
Поскольку вполне хороша
ей жизнь под сургучной печатью,
под спудом опущенных век,
поскольку ей все здесь едино…
Да что же ты кровью на снег
все плачешь и плачешь, рябина?
***
Пустой, пропитый изнутри,
вдоль проходных дворов-скворешен,
вдоль «Рыба», «Мясо», «Обувь», грешен,
в портвейн влюбленный «Тридцать три»,
я шел, пуская пузыри,
на дно когда-то бурной жизни…
Нет, жизни не было в отчизне,
но жить хотелось, хоть умри.
Безликий, словно трафарет
забытой пьесы персонажа,
я – не находка, а пропажа –
шел в небеса держать ответ.
Забыв ухмылку наглеца,
я молча шел – как на картинке
Ван Рейна сын в одном ботинке –
упасть в объятия Отца.
Шел, каюсь, прихватив винца,
и все бледнел, покуда ржала:
«Не хочешь ли под ребра жало?» –
жизнь эта черная с лица.
Мой век ко дну шел вверх кормой,
и вслед за ним, дрожа от страха
и все ж свистя под нос, как птаха,
я шел на страшный Суд – домой!
На Смоленском
Где, выпустив пар в небеса,
земля отдыхала в исподнем,
сегодня на четверть часа
открылась мне Слава Господня.
Как воин окрепший в боях,
твердыней средь зелени кроткой,
стояла она в соловьях
за черной чугунной решеткой.
А рядом все прятал свой взгляд,
как – помнишь? – под взглядом Марии
глаза отводящий Пилат,
угрюмый гигант индустрии.
Чернела трубы рукоять,
и мутно-казенные стекла,
не в силах хотя бы понять,
смотрели невидяще-блекло.
Но что ей решетка была?!
Что был ей гигант сей, вслепую
ловящий за оба крыла
бессмертную высь голубую?!
Вставал до небес соловей,
и было небес ему мало,
и трель его кровью своей
за грань бытия выпирала!
Так, чуду ступив на порог,
я шел, порывая с толпою,
как к славе посмертной пророк –
тропы не касаясь стопою.
Так шел я, и солнца струя
клубила прохладные кущи…
И стоила Слава сия
Голгофы, навстречу плывущей.
***
Открыта к Богу высь.
Мне б, белого налива
хрустя снежком, пройтись
до Финского залива.
Чтоб в шапке фонаря
охапки пчел мохнатых.
И, честно говоря,
чтоб жить в семидесятых,
где Витя-эмбрион
от счастья рвет тальянку,
где денег миллион
в кармане на гулянку.
Где всё еще – с ноля
и все еще – святые…
И свет – из хрусталя
и души – золотые.
И право – в ересь впасть
и выйти из шинели…
Где мы такую власть
над пропастью имели!
Простая пара крыл –
не бог весть что…
И все же
я тоже с вами плыл
средь вечности, о Боже!
***
По первому снегу в вагоне катиться чудно.
По первому снегу от жизни нужна только малость:
бутылка в кармане, котлета на станции Дно…
И даже не больно, что жизни уже не осталось.
Тоскует гитара. Ты – рядом, ни молод, ни стар,
и птица под ребрами мается. Птичке сгодится
сто граммов украдкой, а если припрет – санитар
на станции Дно вколет пару кубов в ягодицу.
Жизнь вновь не начнешь, как когда-то Великим постом.
Крутить напоследок хвостом здесь поможет едва ли.
И все же, суконную жизнь осеняя крестом,
по первому снегу так тянет свихнуться в финале.
И мир отомкнуть для себя, как бутылку Клико,
и, Дно проворонив, сойти с чемоданчиком в Ницце,
поскольку по первому снегу в вагоне легко
быть даже тому, кому так и не выпало сбыться.
Покуда окрест онемело белеет страница,
по первому снегу не трудно совсем угадать,
что это – свобода, а это, вокруг, – благодать!
И грудь распахнуть, где за прутьями выросла птица.
Ангел
Рядовой небожитель, мастер взять и помочь, –
ходит ангел-хранитель по пятам день и ночь.
За рябым работягой, за тугим мясником,
как пустая бумага из парткома в профком.
Тихий, чуткий и бледный, каждой кошке знаком,
весь октябрь ходит, бедный, под дождем босиком,
без горячего чая, как ударник труда,
головою качая… И горит от стыда!
Пишет дикую повесть про Фому-дурака,
променявшего совесть на свинячьи бока,
на бесстыжую рожу и копилку, хоть режь…
Он по образу тоже. Но подобие где ж?
Вышлет Бог нам погодку, а клиент все одно:
лишь бы дуть свою водку и лежать как бревно.
Что ему бодрость духа с острой правдой в горсти?!
Не паси это брюхо! Эту плоть не спасти.
Что бездомнее шавки, без присмотра врача,
здесь шататься без шапки, два крыла волоча?
Ты – любовь нам да ласку, а тебе – нагоняй.
Улетай в свою сказку. Дурака не валяй!
Вот мой плащ и галоши. Вот – билет на Луну…
Улетай, мой хороший, ты ему ни к чему.
Последние строфы
Я плелся между мраморных рядов,
в виду имея истину иную.
Разрубщик после праведных трудов
сулил мне даром голову свиную.
Он властвовал, он бурно ликовал
по поводу стремительной торговли,
пока я шел из прошлого в провал
грядущего, текущим днем отловлен.
Глаза его сияли и, смеясь,
сиятельство его рукой горячей
совал мне дар, в виду имея связь
моей тщеты и участи свинячьей.
И, целиком сгорая от стыда,
не в силах отодвинуть взор от рыла,
я принял дар мучительный – о, да! –
и вышел, ног не чуя, шестикрыло.
Сквозь строй торговцев, маясь головой,
сквозь царство душ, формальных поголовно,
я нес свиную голову домой,
как в мир преступный – кодекс уголовный.
Меж небом слов – манером воровским –
и плотью дел не в силах разорваться,
я шел сдаваться плотскому с тоски,
теряя стыд, я свинству шел сдаваться.
Я шел упрямо жизнь свою менять,
шел поскорей на призрачное тело
тяжелый бархат мира примерять
и праздник чашей черпать без предела.
Я к жизни шел, решительный, как тать,
шел сладостно мольбой ее упиться,
шел, наконец, язык ей показать,
как из-под потолка самоубийца.
***
Два мальчика консерваторских,
одетые почти как урки,
у театральной тумбы с «Тоской»
метут старательно окурки.
Апологеты По и Кафки
раз десять шаркнут под афишей,
где, бабочкою на булавке,
Жизель безумная не дышит.
С утра их метлы тянут зыбкий
мотивчик серого асфальта…
А вечером очнется скрипка –
едва услышит голос альта.
И вздрогнет бабочка, поскольку
крылата, и рванется гибко,
уже не чувствуя иголку,
на голос альта или скрипки.
***
Сейчас начнется. Флейта и гобой
влезают в строй хромированной стали,
смычки снуют и стонут вразнобой…
Все ждут его. И свет, и кашель в зале.
Вот сотни взглядов падают в провал,
сойдясь на том, кто сыплющийся дробно
свистящий хаос организовал,
подняв крыло, взглянув громоподобно.
Вот-вот и хлынет Реквием. Вот-вот,
притихших нас, подняв на гребень круто,
девятый вал на рифы зашвырнет,
и рухнет мрак, и грозно встанет утро.
Но мы спасемся за входной тариф!
Какая сила нас вжимала в кресла,
какая высь, сердца нам отворив,
вошла в нас, чтобы музыка воскресла!