К 170-летию со дня рождения поэта Иннокентия Анненского размещаем беседу Елены Елагиной с Александром Кушнером о творчестве Анненского, его роли и продолжающихся традициях в русской поэзии (опубликовано ранее на Folioverso)
Александр Семенович, Вы всегда называете Анненского одним из самых первых в ряду любимых поэтов. Это давняя любовь? Ведь в советские времена его стихи были почти недоступны.
При жизни Анненский был заслонен корифеями символизма, всеми этими магами, мистагогами, чародеями, рыцарями, обладателями последних тайн и т.д., а в советское время – поэтами-певцами героической советской эпохи, к нормальной человеческой жизни не имевшими отношения.
И все-таки Анненского помнили и любили те, кому была дорога и внятна подлинная поэзия. В 1959 году в «Библиотеке поэта» вышла книга его стихов – к 50-летию со дня смерти поэта, подготовленная замечательным исследователем его творчества – Андреем Венедиктовичем Федоровым. Вот эта книга и стала моей настольной книгой, это была поэзия в чистом виде. В те шестидесятые годы поговорить об Анненском с моими сверстниками я почти не мог: мало кто понимал его. Даже Бродский был к нему, как я помню, равнодушен. Но среди людей старшего поколения были люди, любившие его стихи, и среди них – Лидия Яковлевна Гинзбург, с которой я дружил. В ее книге «О лирике» Анненскому посвящена глава «Вещный мир». Она показала, как вещи в стихах Анненского сцеплены с человеческим сознанием: допустим, стихотворение «Старая шарманка»:
Лишь шарманку старую знобит
И она в закатном мленье мая
Всё никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая…
– это стихи о человеческой старости и одиночестве. А стихотворение «Будильник» -
Обручена рассвету
Печаль ее рулад.
Как я игрушку эту
Не слышать был бы рад…
– о рабочей повседневности, известной каждому трудящемуся человеку, и советскому – тоже! Анненский всю жизнь прослужил учителем, а потом – директором гимназии. Может быть, Анненский был мне еще так дорог потому, что я в те годы работал в школе и тоже вставал по будильнику. Разумеется, это мелочь, проходное замечание, а вот что действительно важно: он, как Чехов, разделял живые чувства обычного человека.
Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут…
Так мог сказать только поэт, дорожащий простым человеческим счастьем и знающий, как нелегко оно дается.
Какова, на Ваш взгляд, роль Анненского в развитии русской поэзии? Акмеисты, в т.ч. Ахматова, в музее которой будет проходить вечер памяти Анненского, ценили его высоко, но среди современников он был не слишком популярен. В чем дело?
Анненский был неизвестен при жизни и по своей «вине» тоже. Ведь все свои лучшие стихи он написал в последние пять-шесть лет жизни. Свою единственную прижизненную книгу стихов он назвал «Тихие песни» и выпустил ее под псевдонимом Ник. Т‑о . Она прошла почти незамеченной. А лучшая его книга «Кипарисовый ларец» вышла уже посмертно, в 1910 году. И сразу привлекла внимание людей, любящих поэзию, но прежде всего – поэтов. Ею зачитывались не только петербуржцы: Гумилев, учившийся, кстати сказать, в гимназии Анненского, Ахматова, Мандельштам, Кузмин, но и москвичи, даже Пастернак, даже Цветаева … Приведу два-три примера. Есть у Анненского прекрасное стихотворение «Тоска вокзала», которое заканчивается строфой:
Уничтожиться, канув,
В этот омут безликий,
Прямо в одурь диванов,
В полосатые тики…
(полосатые тики – это чехлы, надевавшиеся на диваны в вагонах первого класса).
А вот Пастернак:
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе…
(«канапе» – такое же заимствованное французское словцо, как английское «тики» – и оба связаны с вагонным купе.)
А вот несколько строк из стихотворения Цветаевой «Дортуар весной» в ее первой книге «Вечерний альбом» (1911):
Косы длинны, а руки так тонки…
Кто-то плачет во сне, не упрямо…
Так слабы эти детские всхлипы…
Знающие поэзию Анненского сразу вспомнят его стихотворение «Старые эстонки»:
Сон всегда мне давался так скупо,
И мои паутины так тонки…
Даже Маяковский не прошел мимо Анненского. Одно из его ранних стихотворений начинается так:
Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет…
А его ужасная строка, рассчитанная на эпатаж и, можно сказать, непростительная: «Я люблю смотреть, как умирают дети» явно передразнивает стихи Анненского, о которых здесь уже было сказано. Думаю, что он позавидовал и не удержался от дурацкого выпада.
Вы – поэт. У поэтов, как известно, свои отношения с предшественниками. А вот чем может быть дорог и интересен Анненский современному читателю? Не специалисту?
Современному читателю Анненский может быть так же дорог и интересен, как поэту. Достаточно прочесть его стихи о любви и «вагонной ссоре»:
В непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
«До завтра, – говорю тебе, –
Сегодня мы с тобою квиты…»
или стихотворение «Петербург», чтобы навсегда его полюбить:
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
или «Смычок и струны»:
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно?»
И Скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно…
Обрываю себя, потому что перечень займет слишком много места. Анненский в своих стихах обращается к человеческому сердцу, ведет интимный разговор с собеседником, помогает ему жить в этом страшном мире, протягивает ему руку в трудную минуту, чувствует то же, что чувствуем и знаем мы:
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка,
От нее даже дыму
Не уйти в облака…
А у кого из современных поэтов в творчестве видны «следы Анненского»? Есть ли в современной поэзии продолжатели «линии Анненского»? Насколько это плодотворно?
И сегодня среди поэтов есть горячие приверженцы Анненского. И наверное, нет ничего странного в том, что это в основном петербуржцы. Поэт Алексей Пурин, один из них, остроумно сказал, что москвичи до сих пор не прочли Анненского. Разумеется, это шутка. И все-таки Анненский – действительно петербургский поэт, и не только потому, что его жизнь связана с Петербургом и Царским Селом, но и потому, что его стих отличается тем «строгим, стройным видом», о котором говорил в связи с Петербургом Пушкин. Недаром его своим учителем называла Ахматова, недаром Мандельштам, вспоминая начало ХХ века, сказал: «Вся спали, когда Анненский бодрствовал».
Что касается сегодняшних поэтов, для которых так важен Анненский, назову еще Дениса Датешидзе, Алексея Машевского, Василия Русакова, Александра Леонтьева – и все они тоже петербуржцы.
Беседовала Елена Елагина

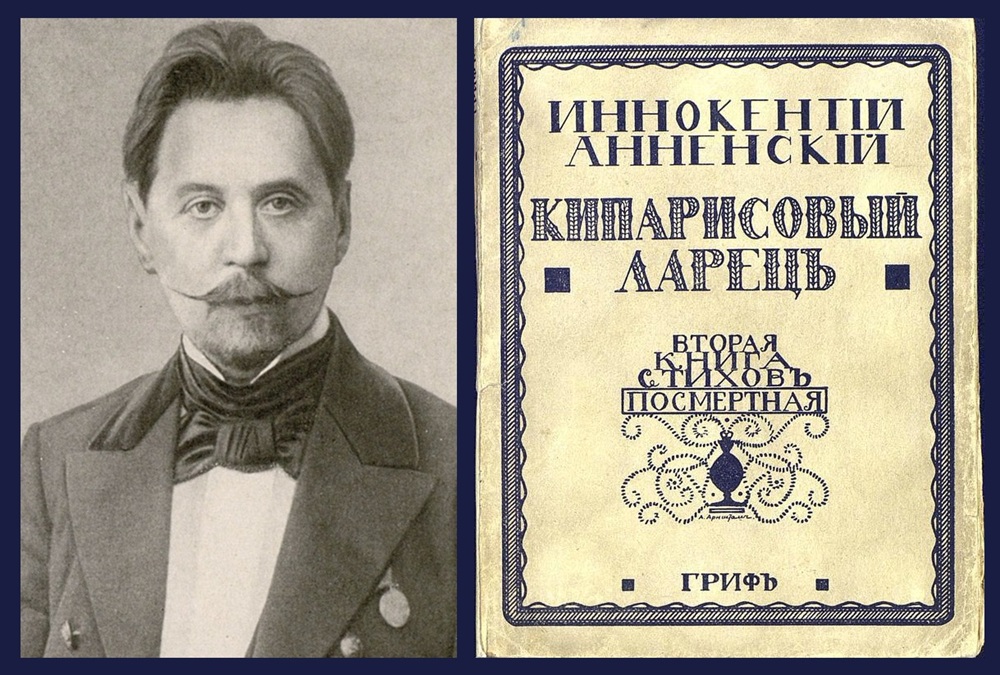

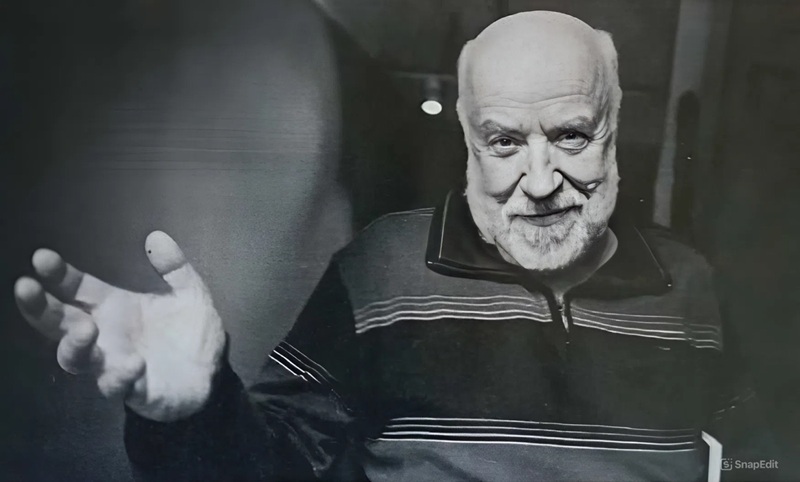





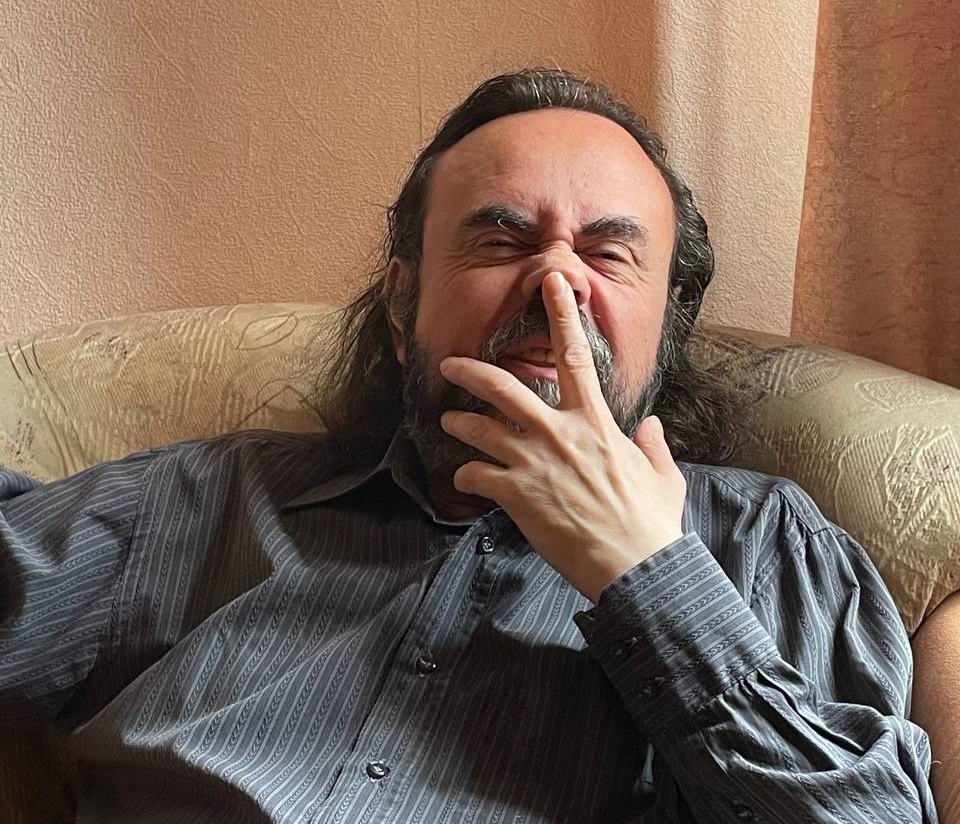

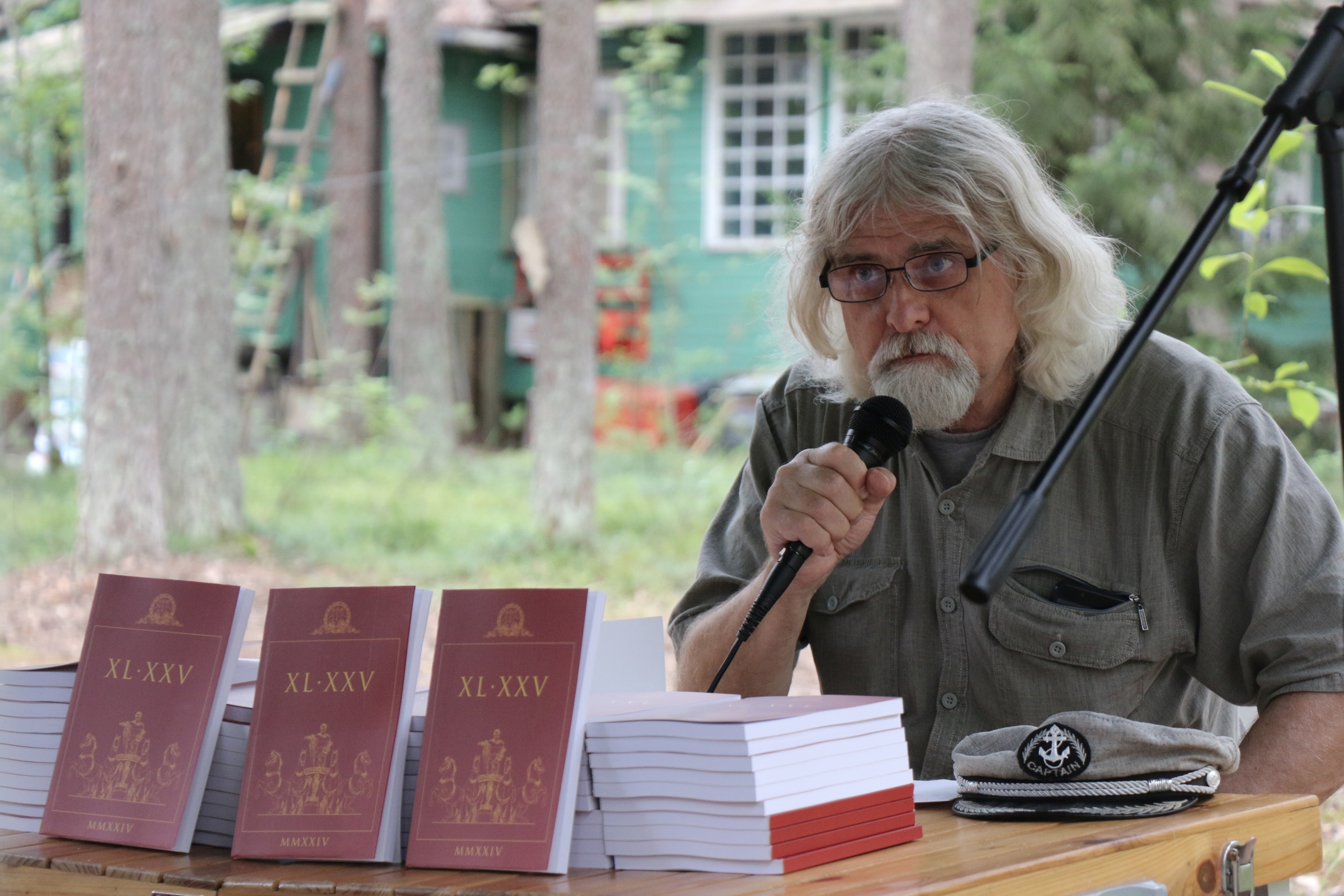








Comments (2)
Михаил Выграненко
= опубликовано ранее на Folioverso Интересно, когда? Была ли эта беседа именно к 170-летию?
Редакция
Это мы разместили беседу к 170-летию Анненского на сайте. А она состоялась раньше (можно пройти по ссылке Folioverso и посмотреть, когда)