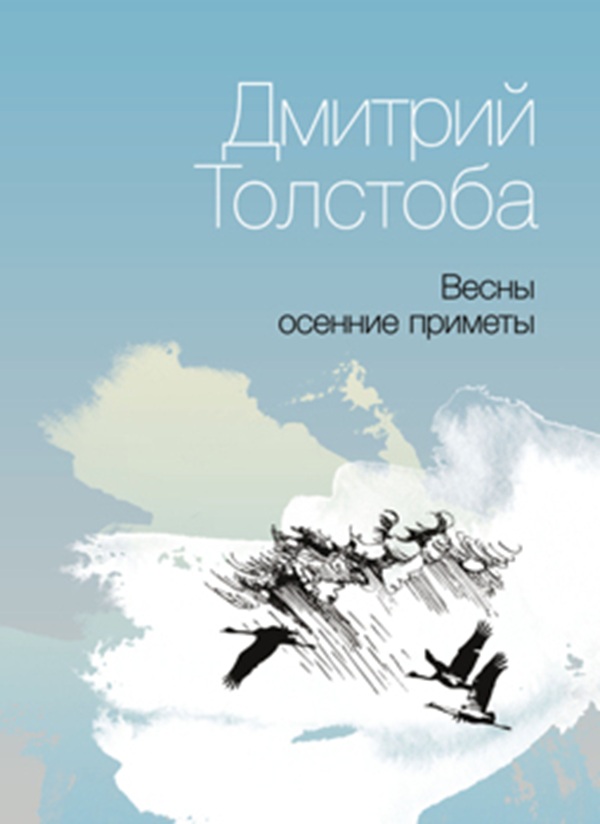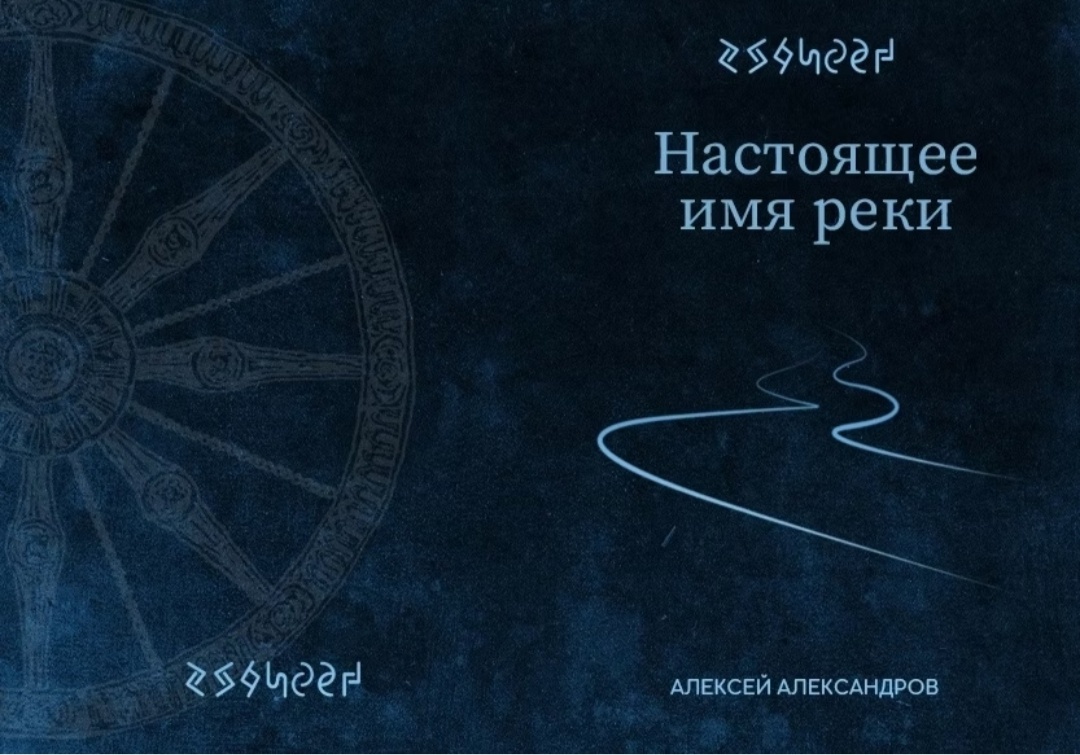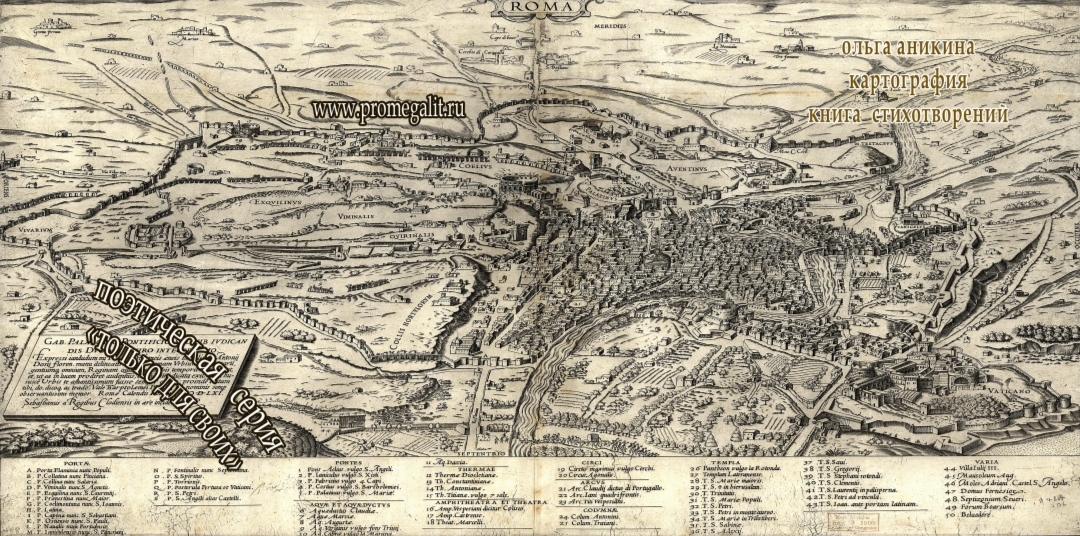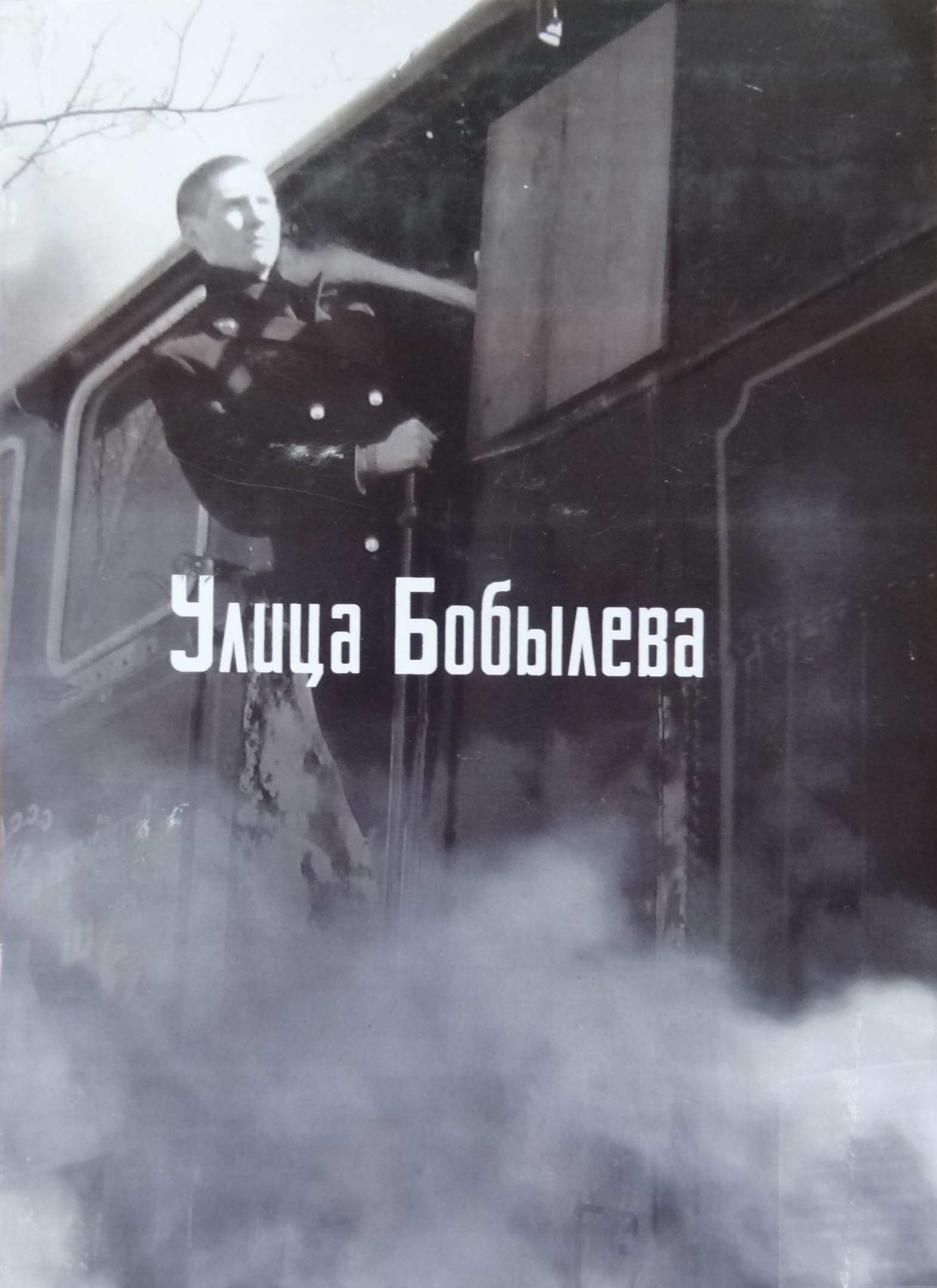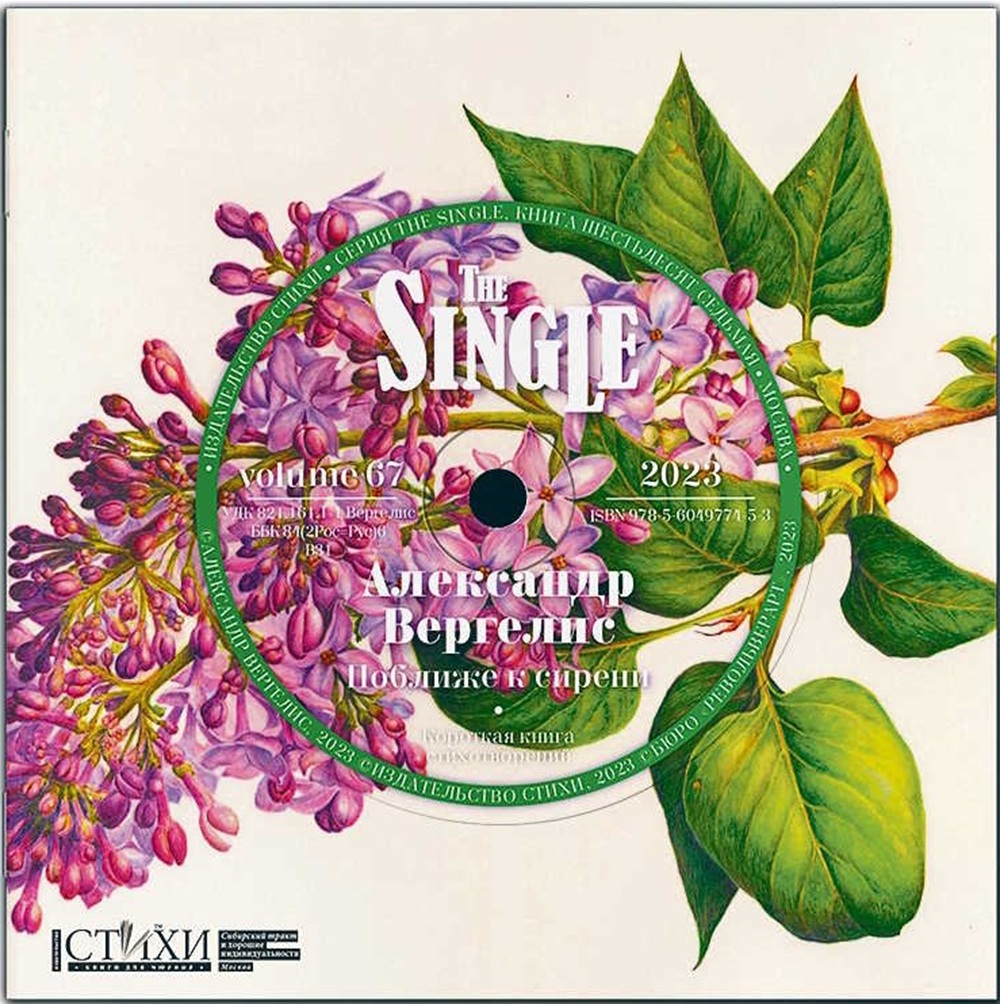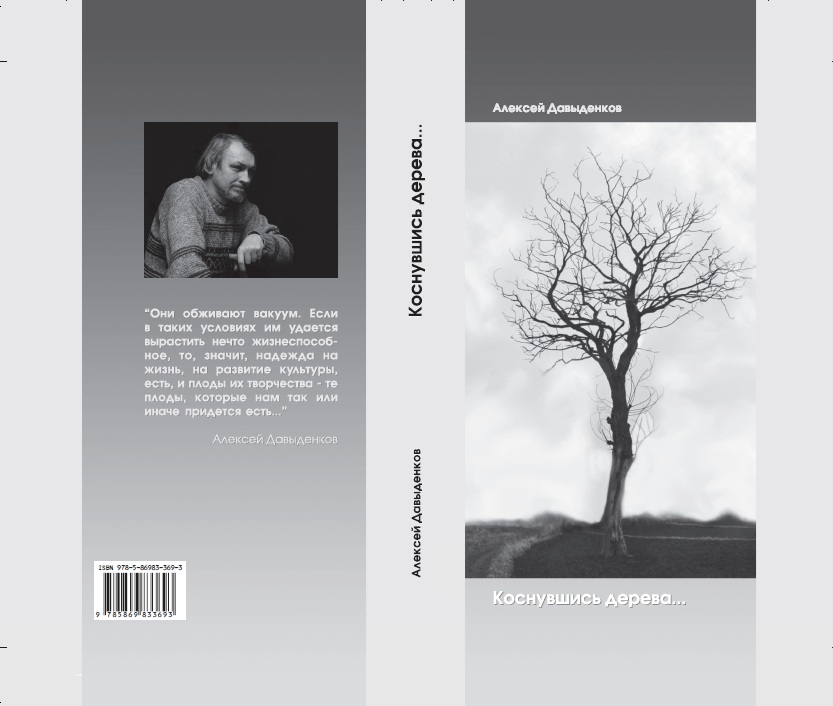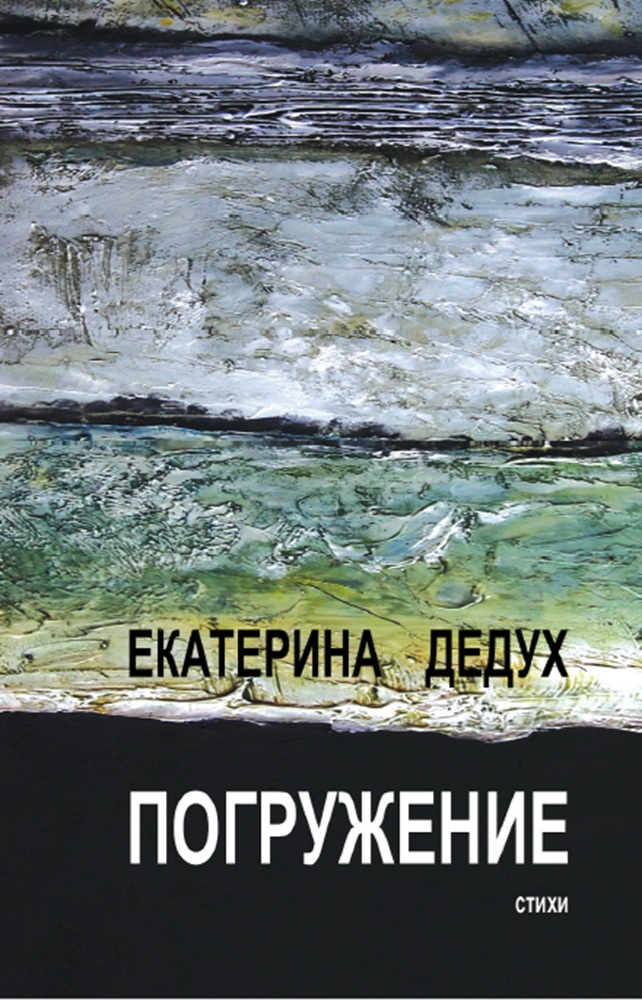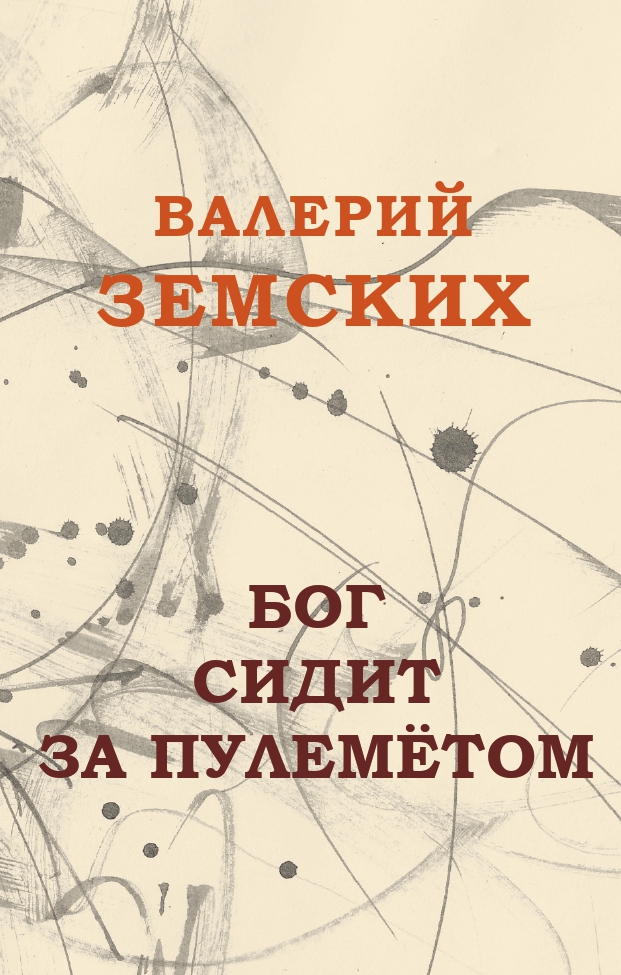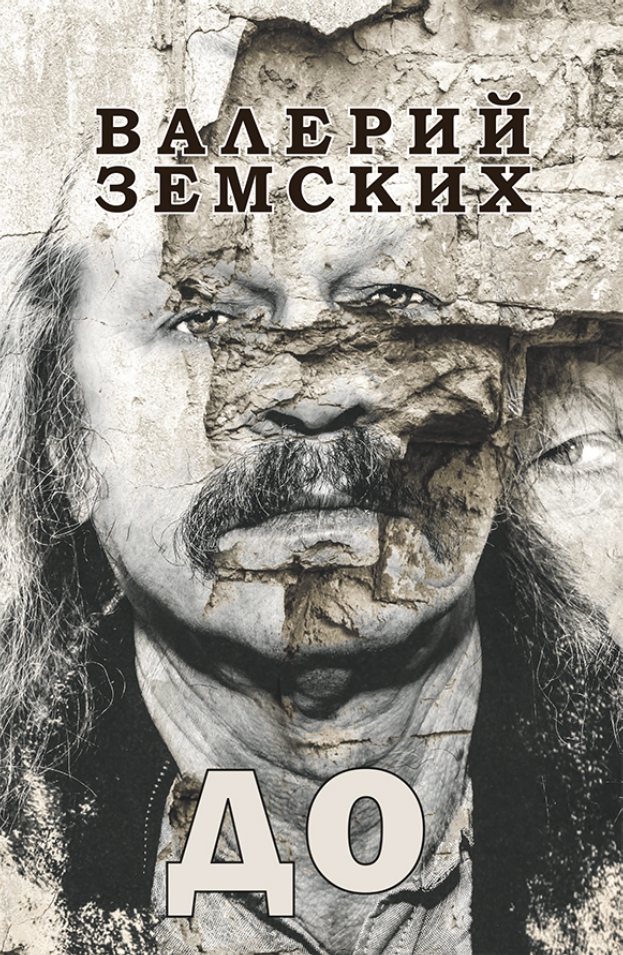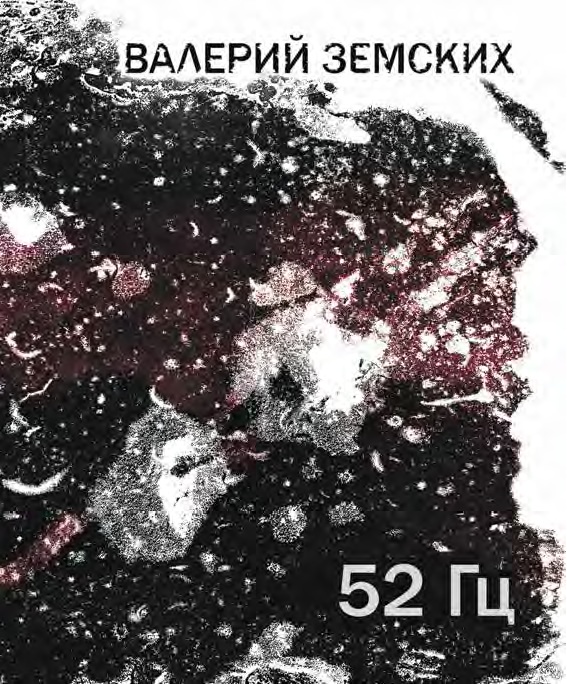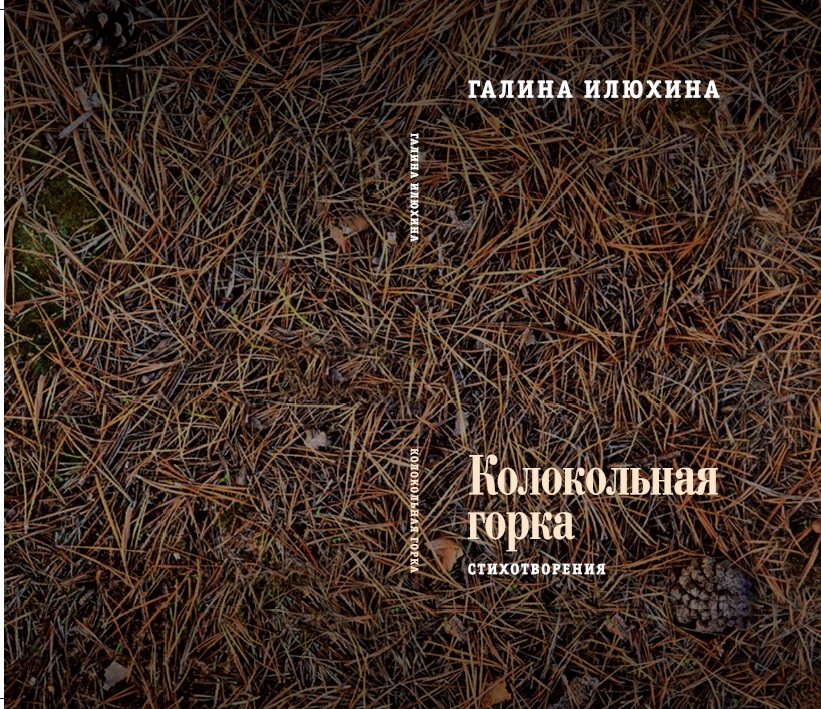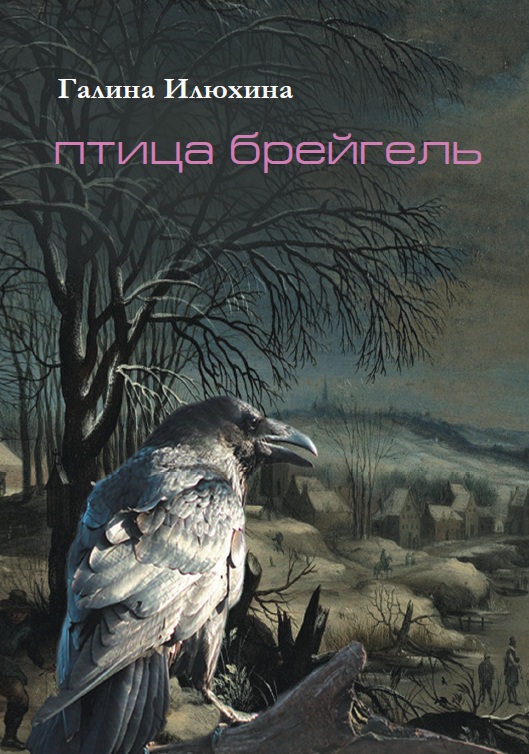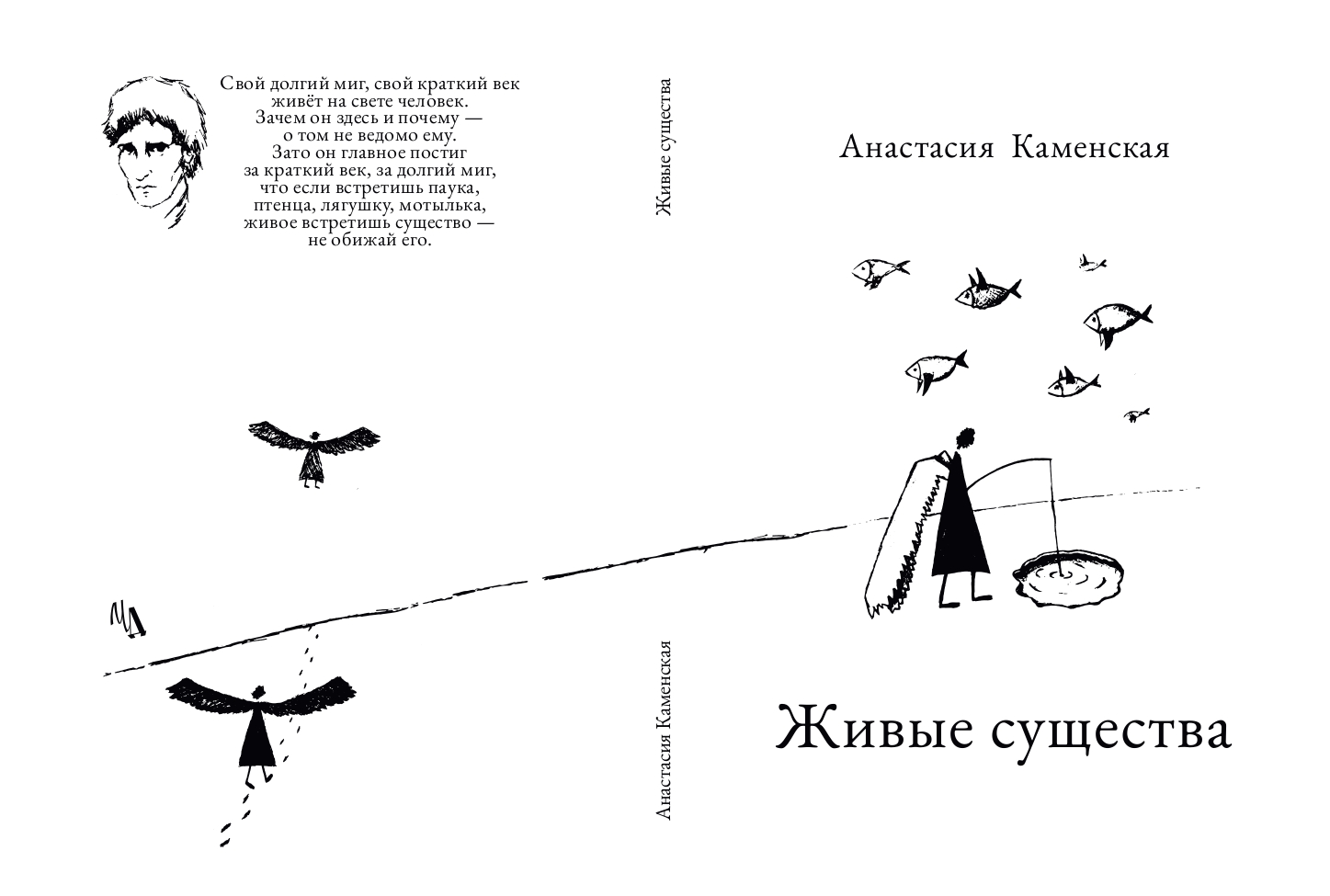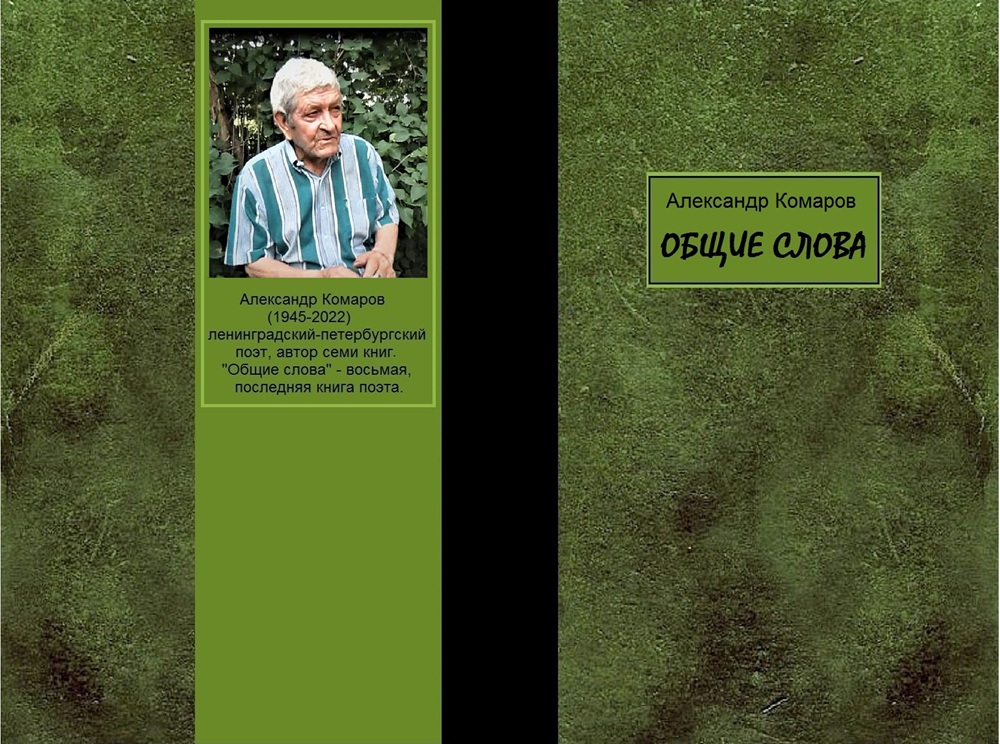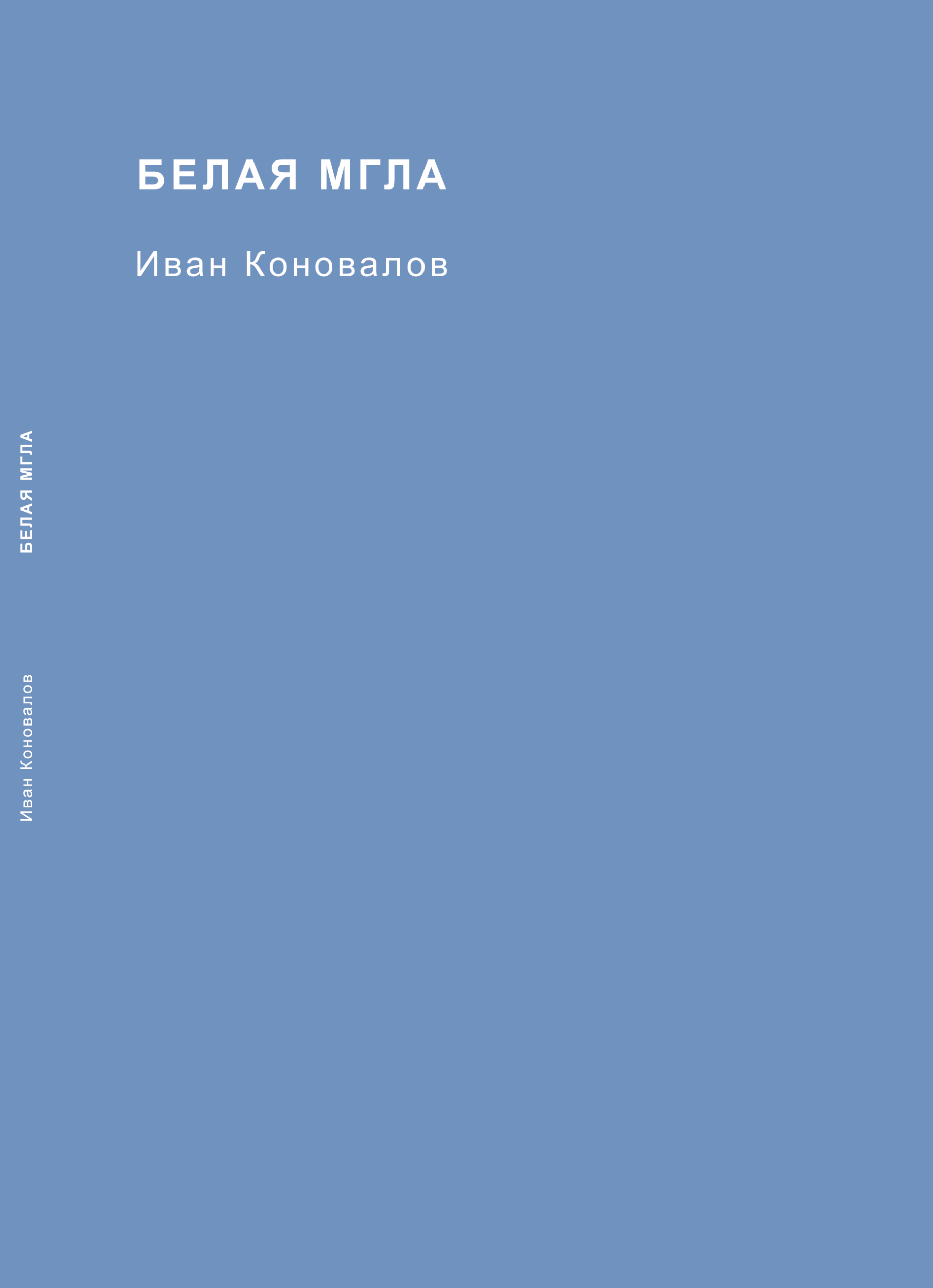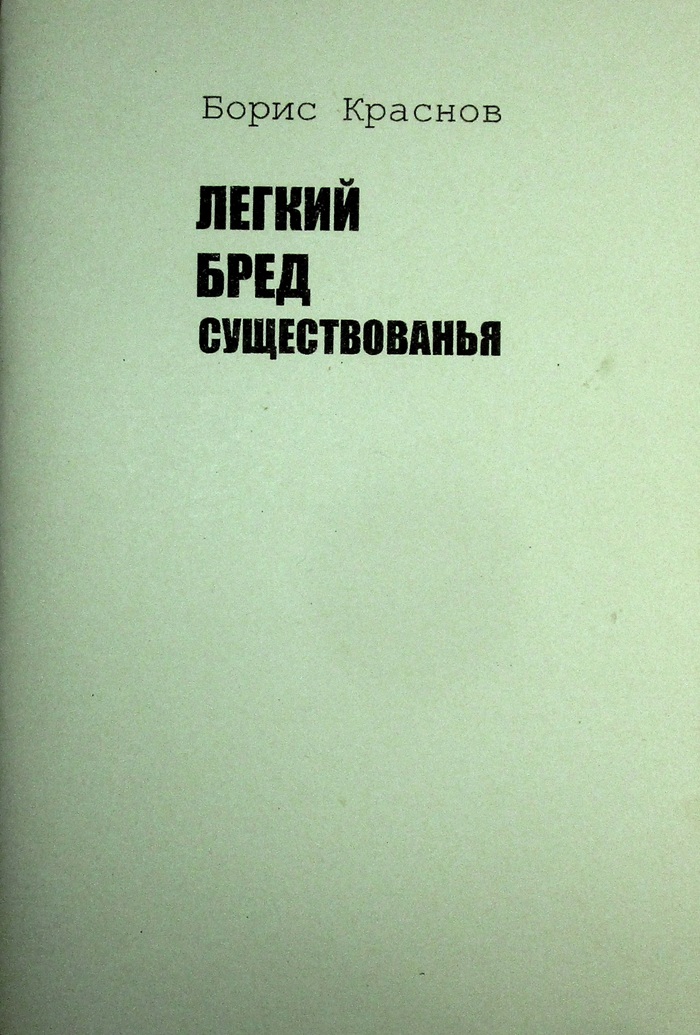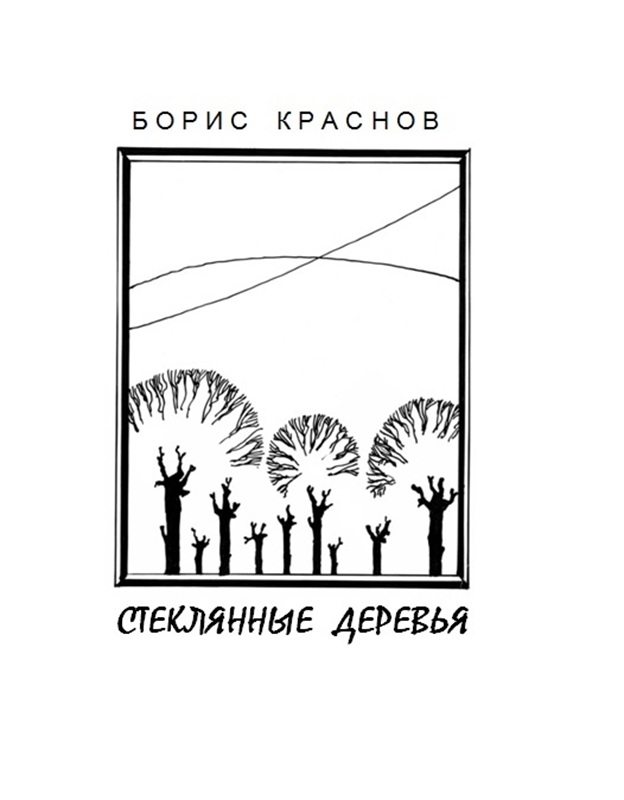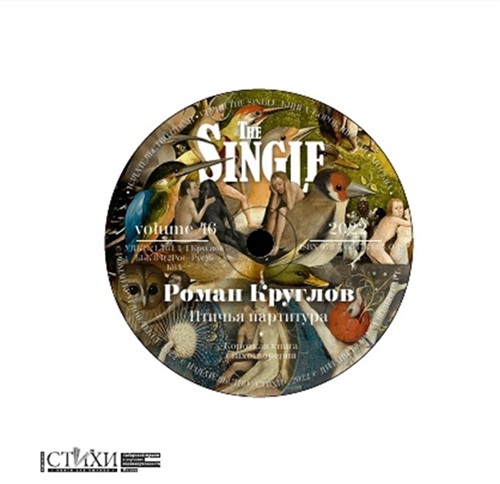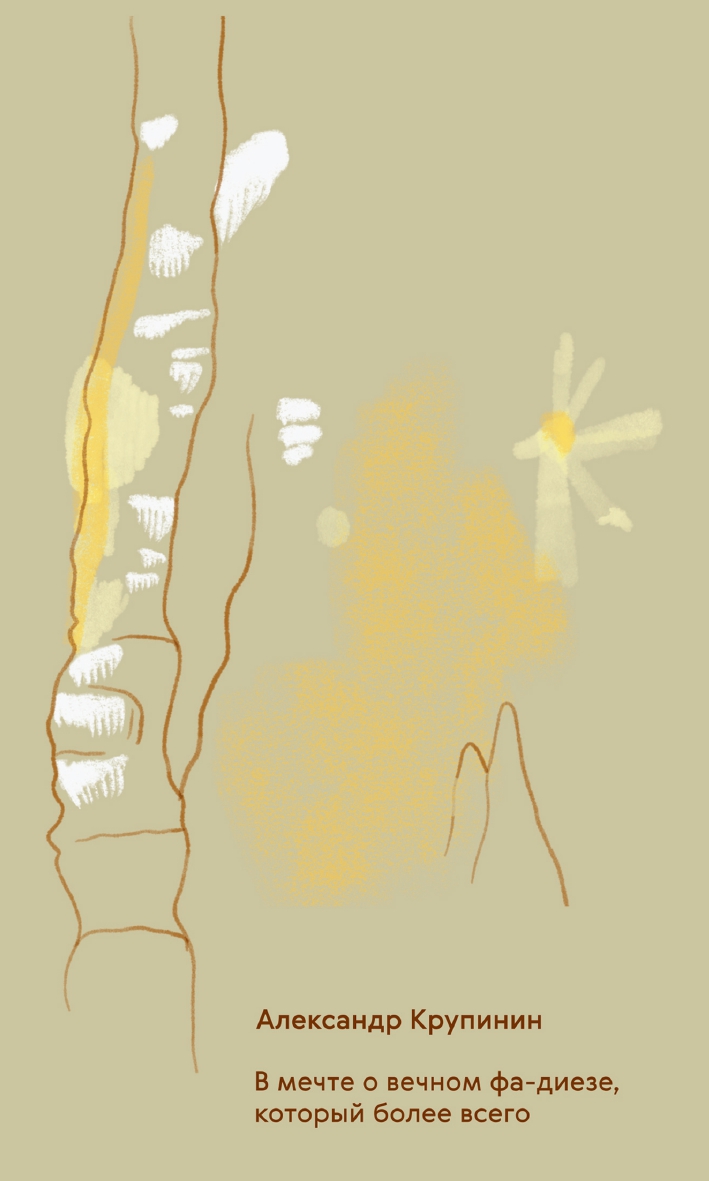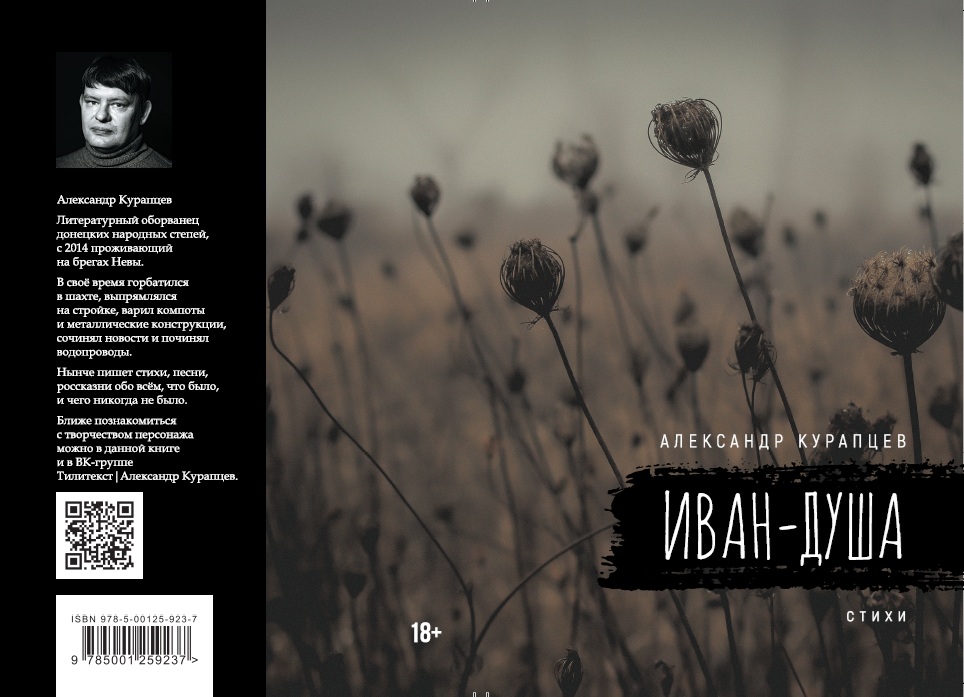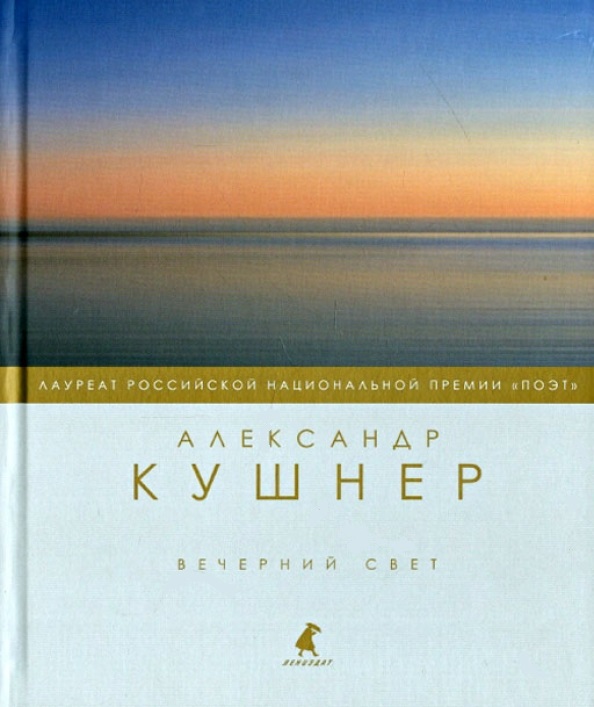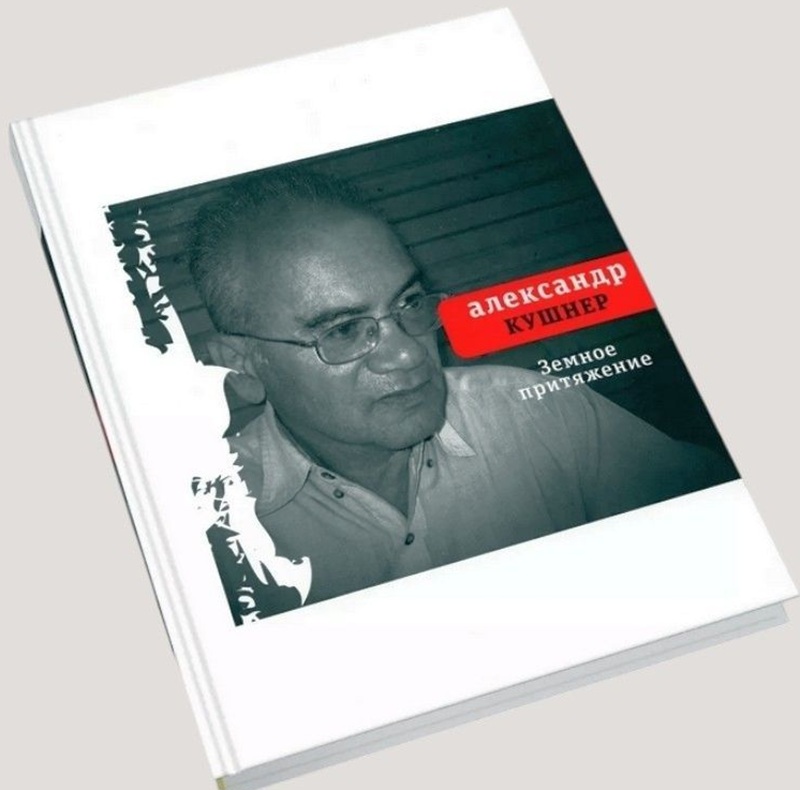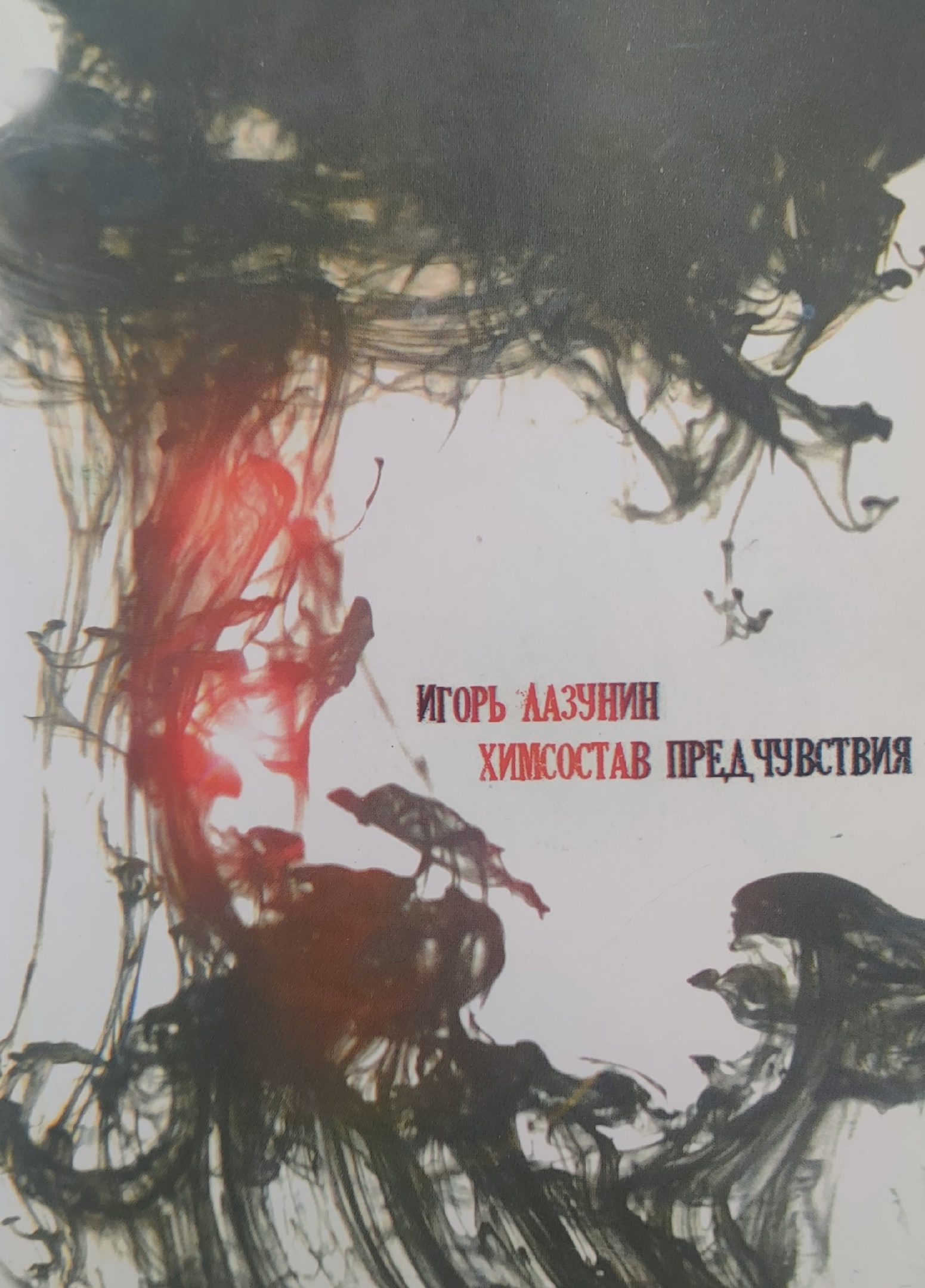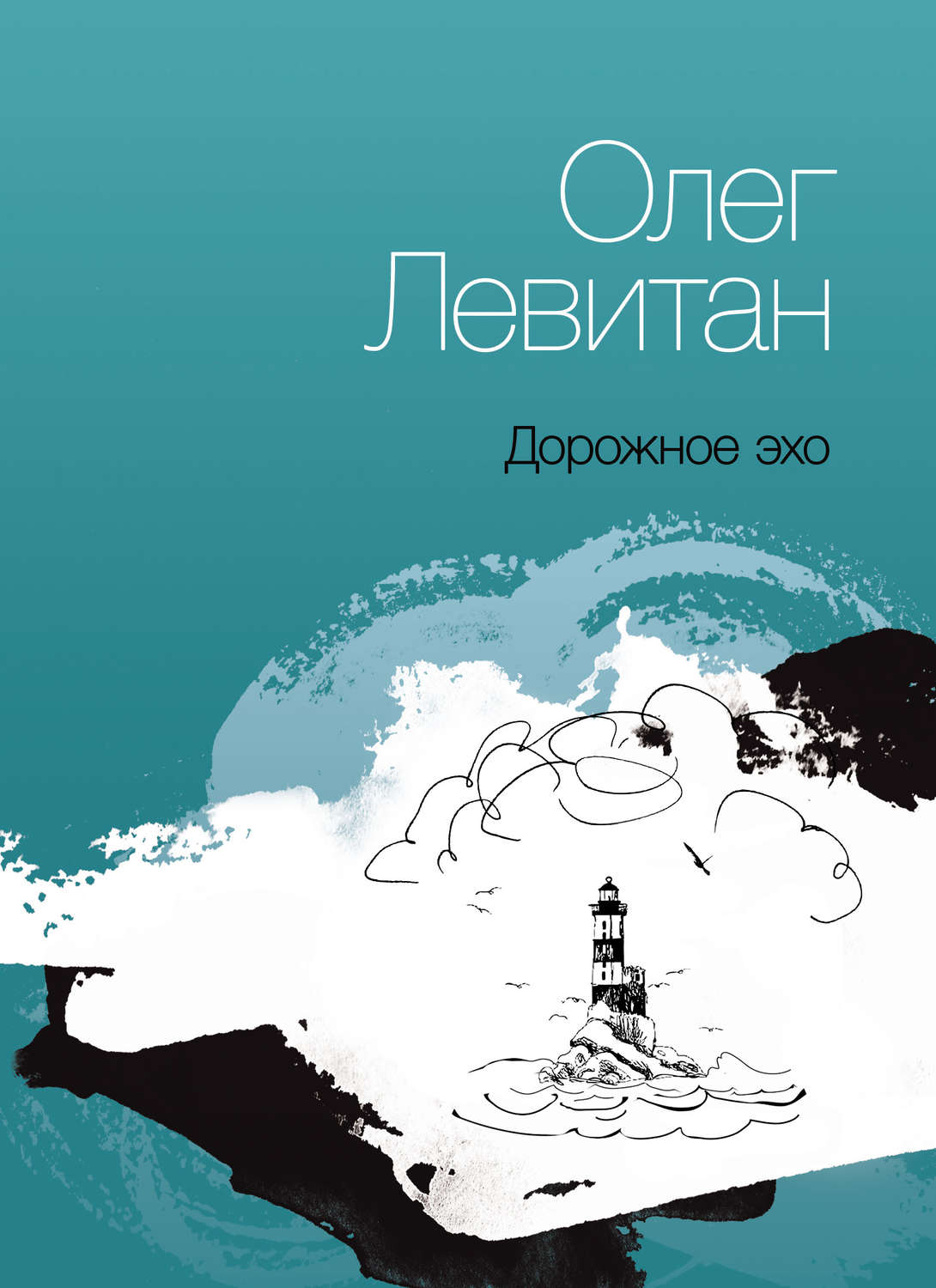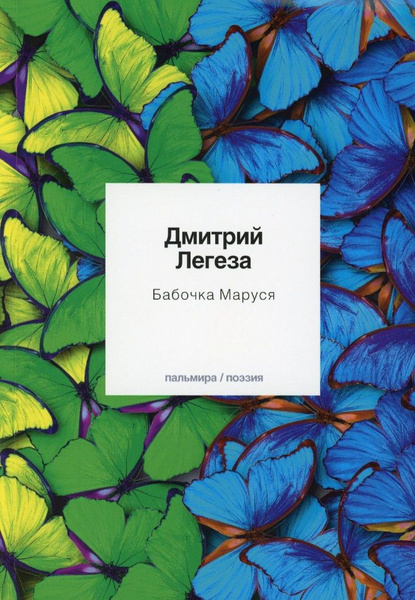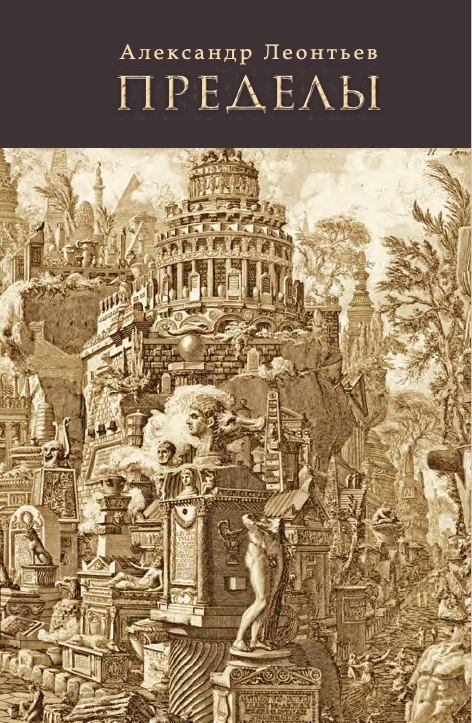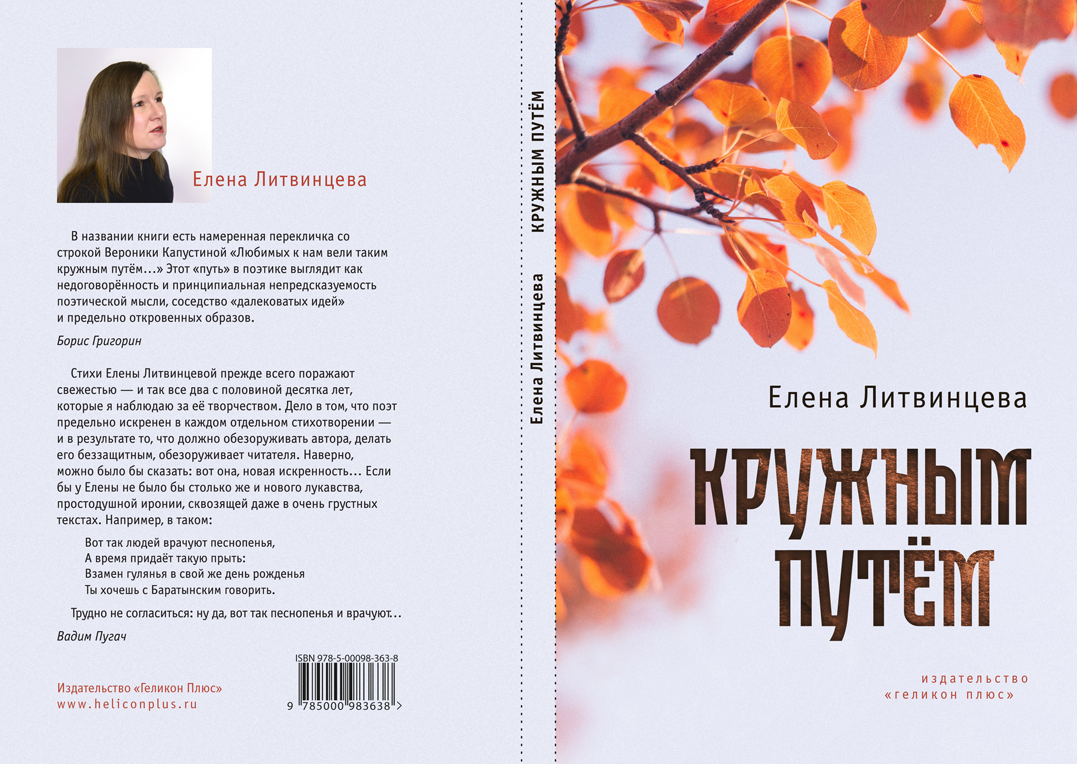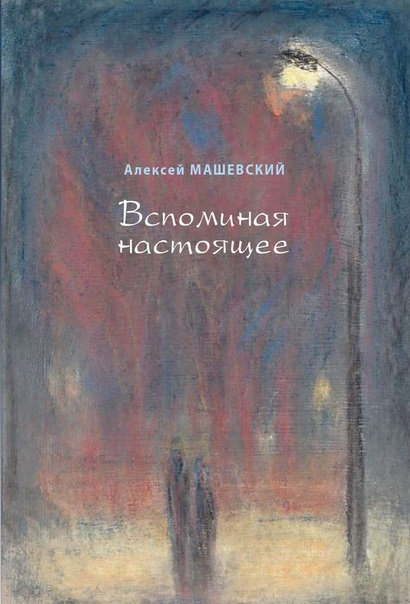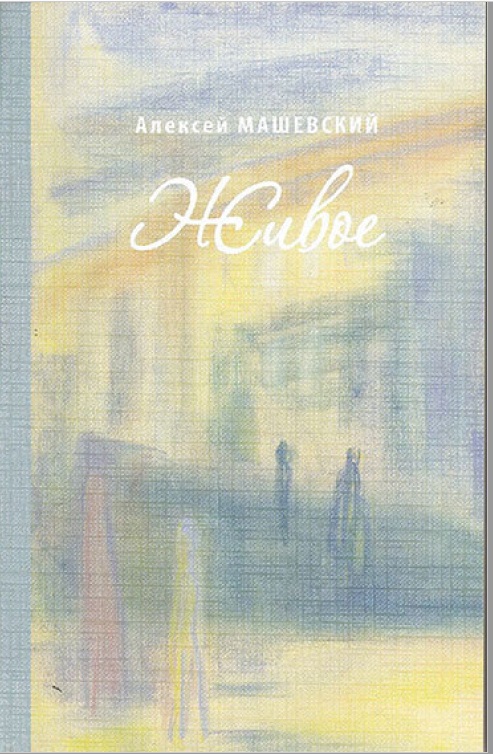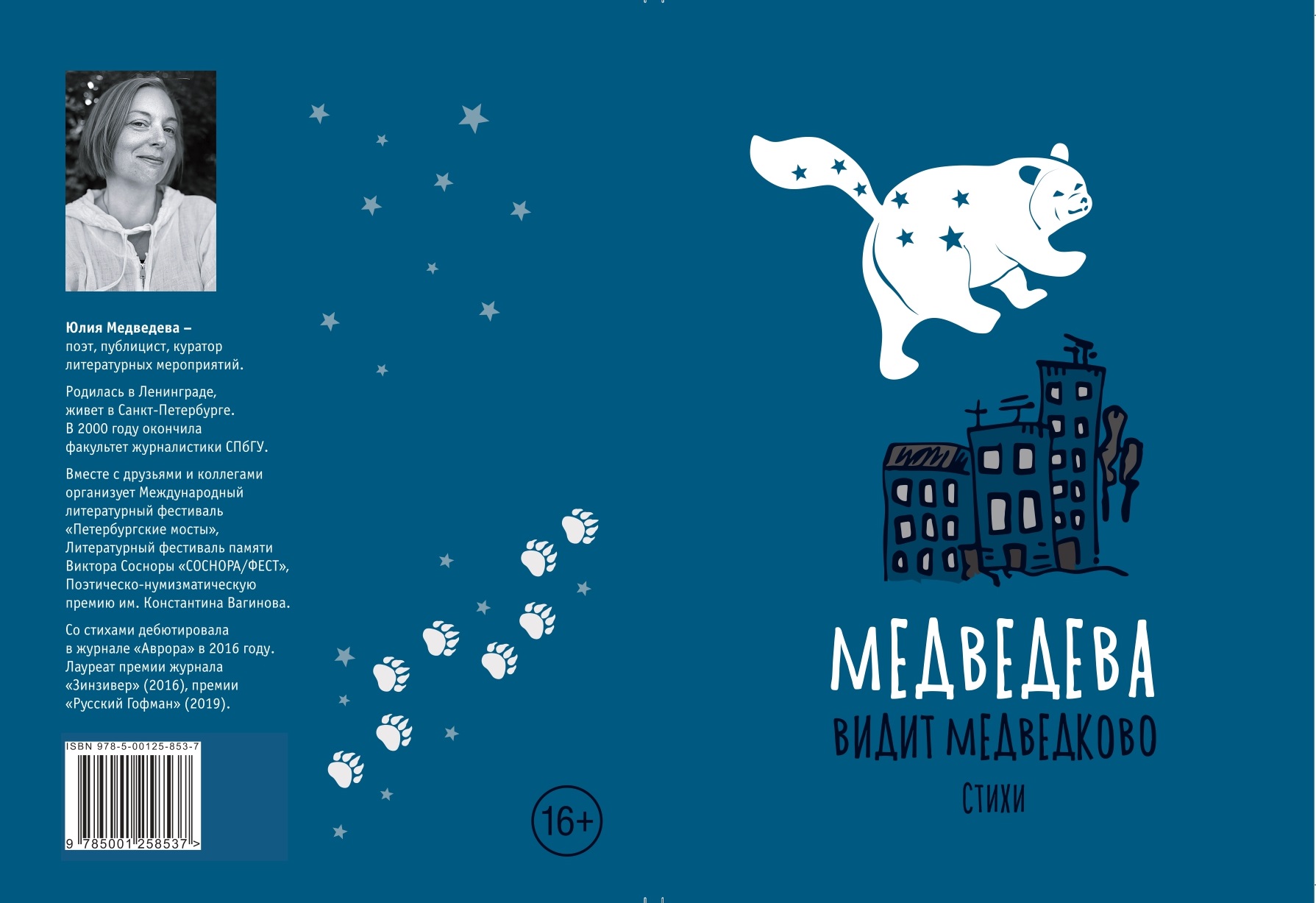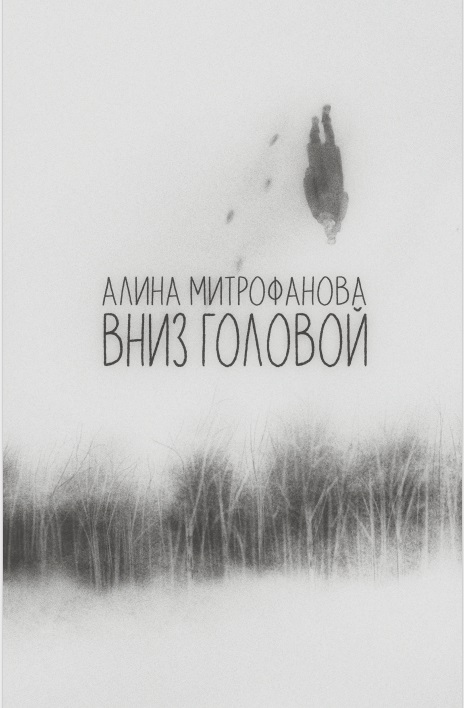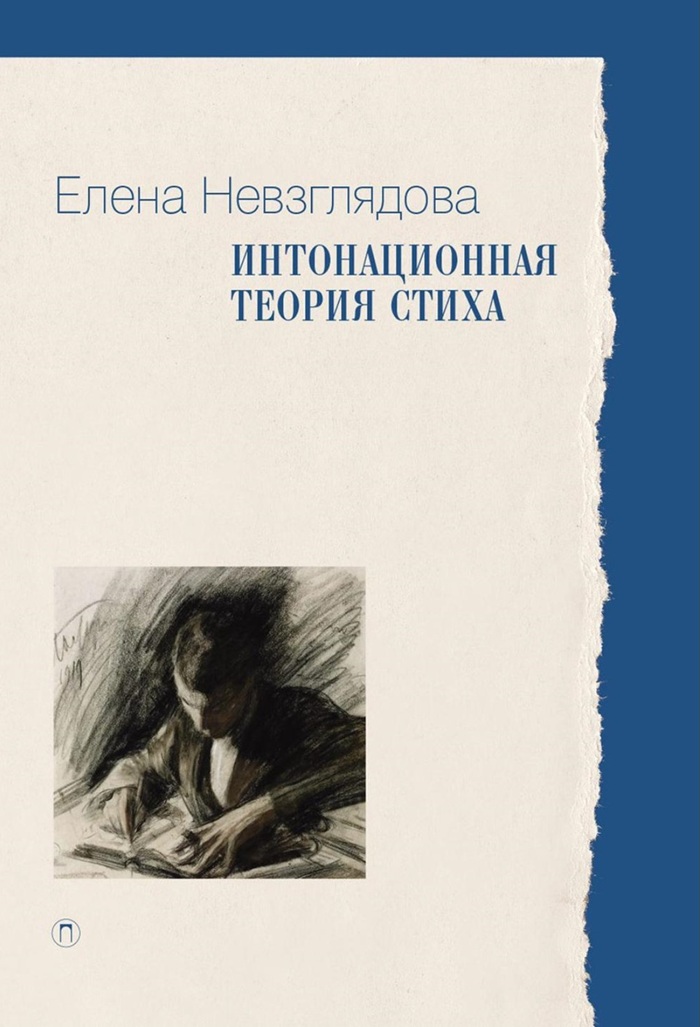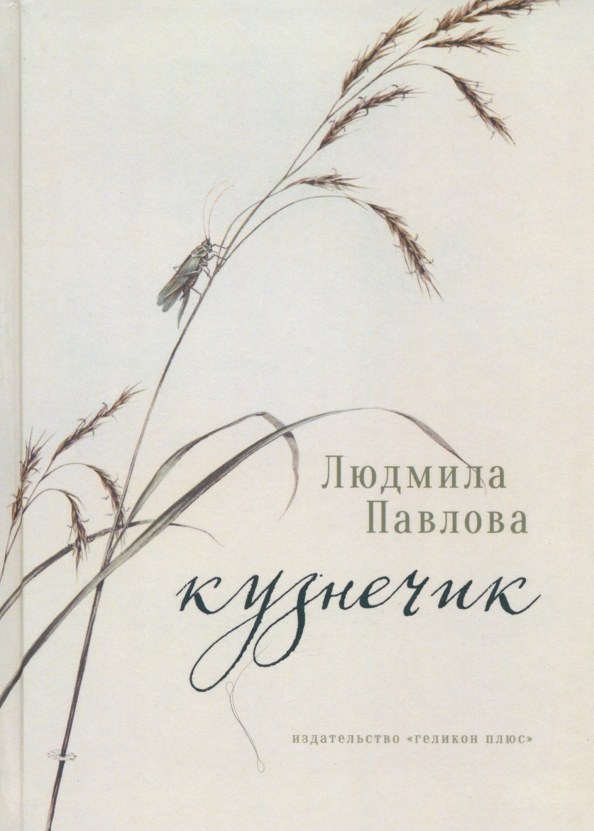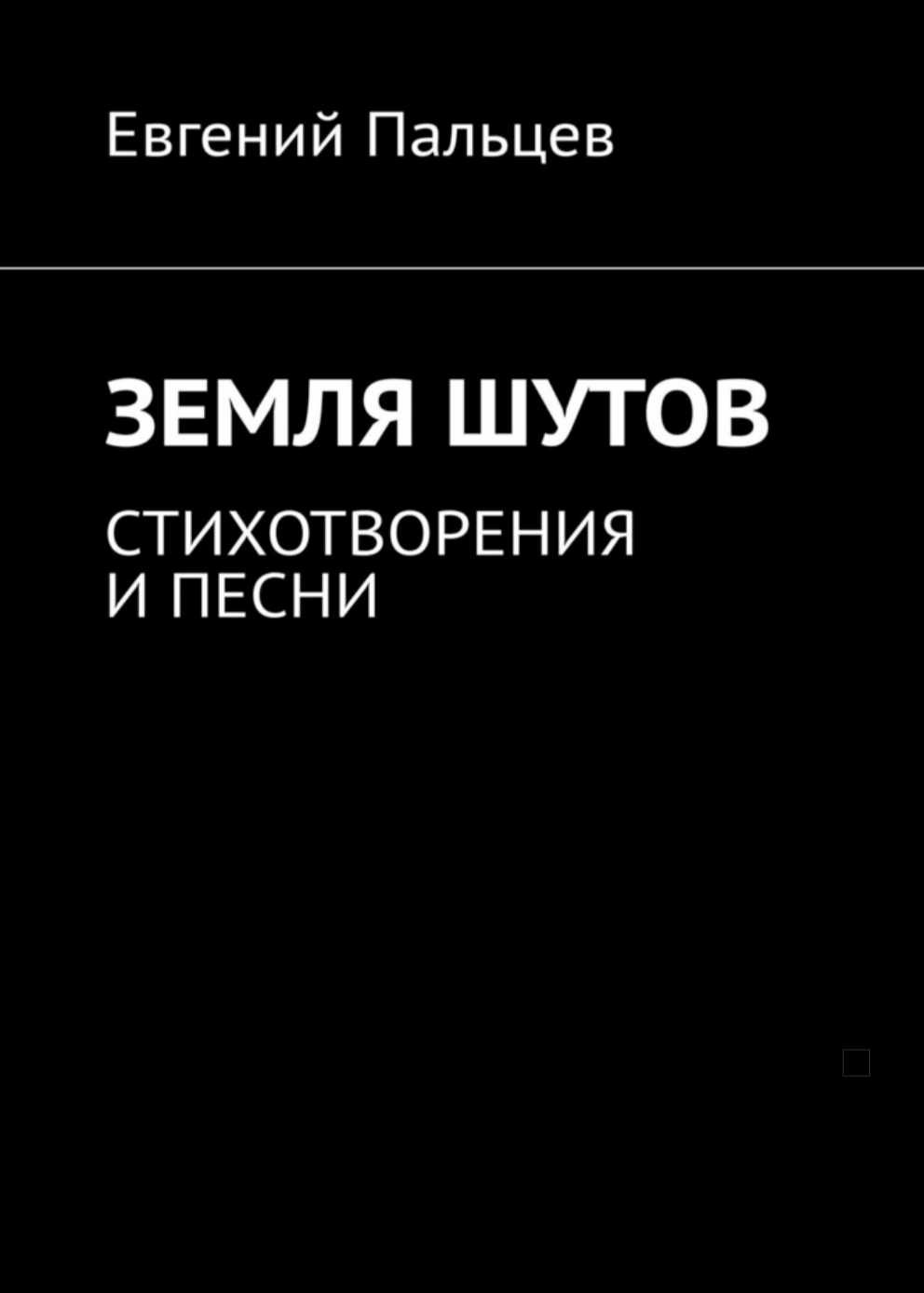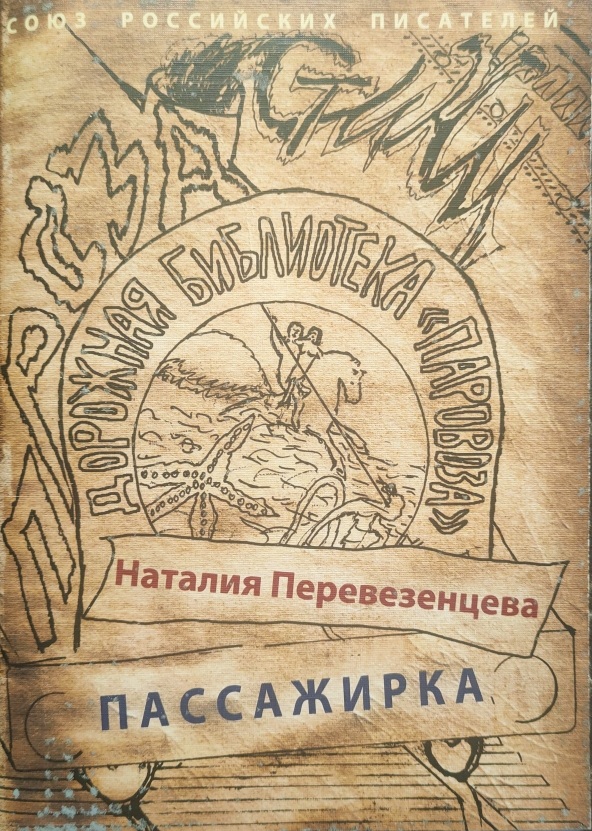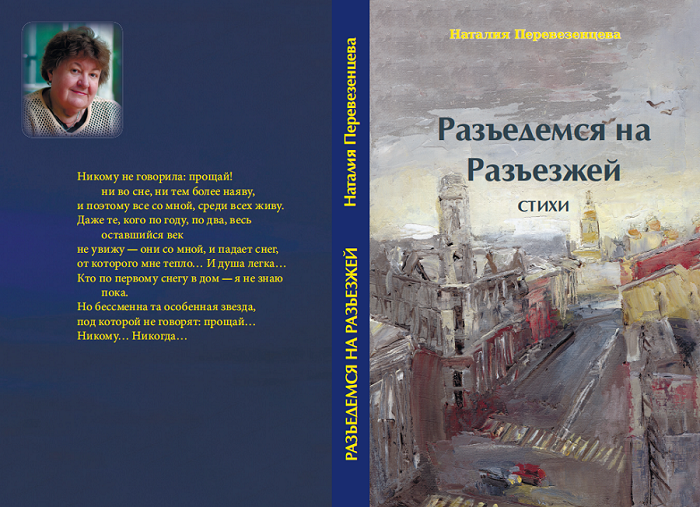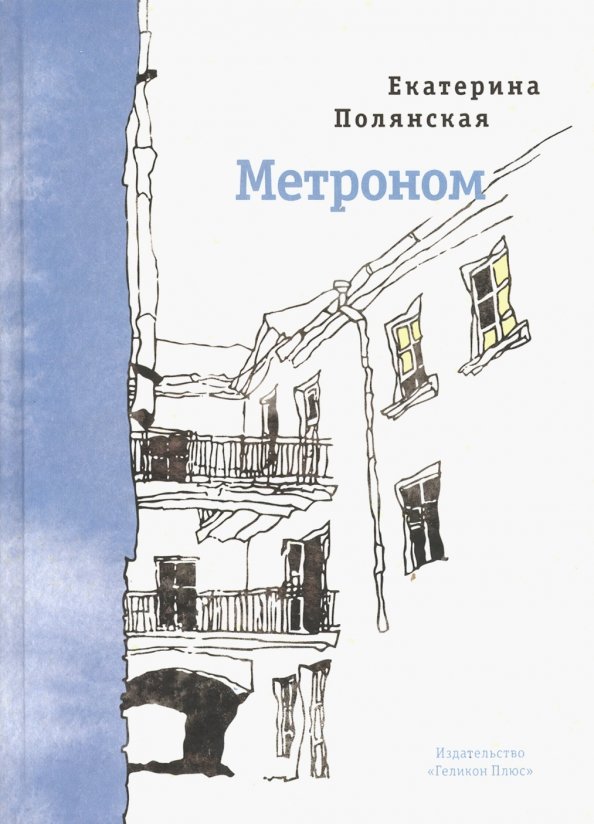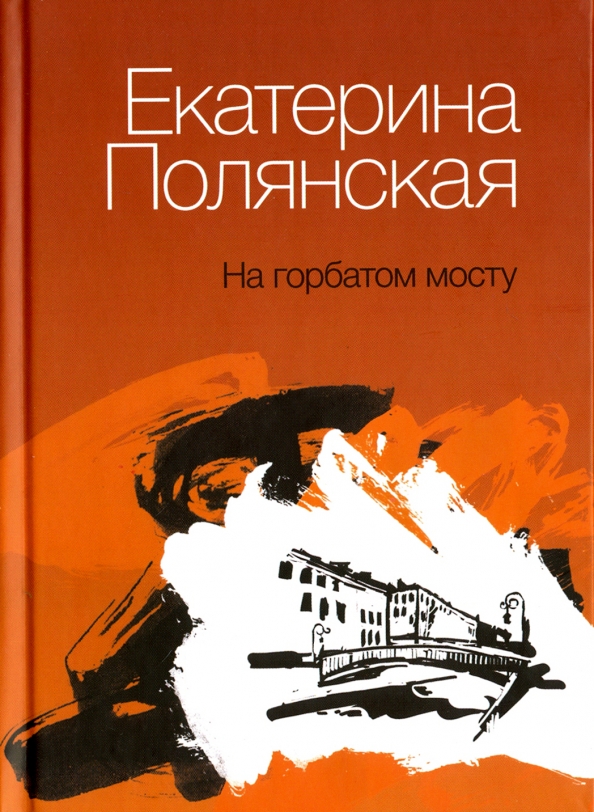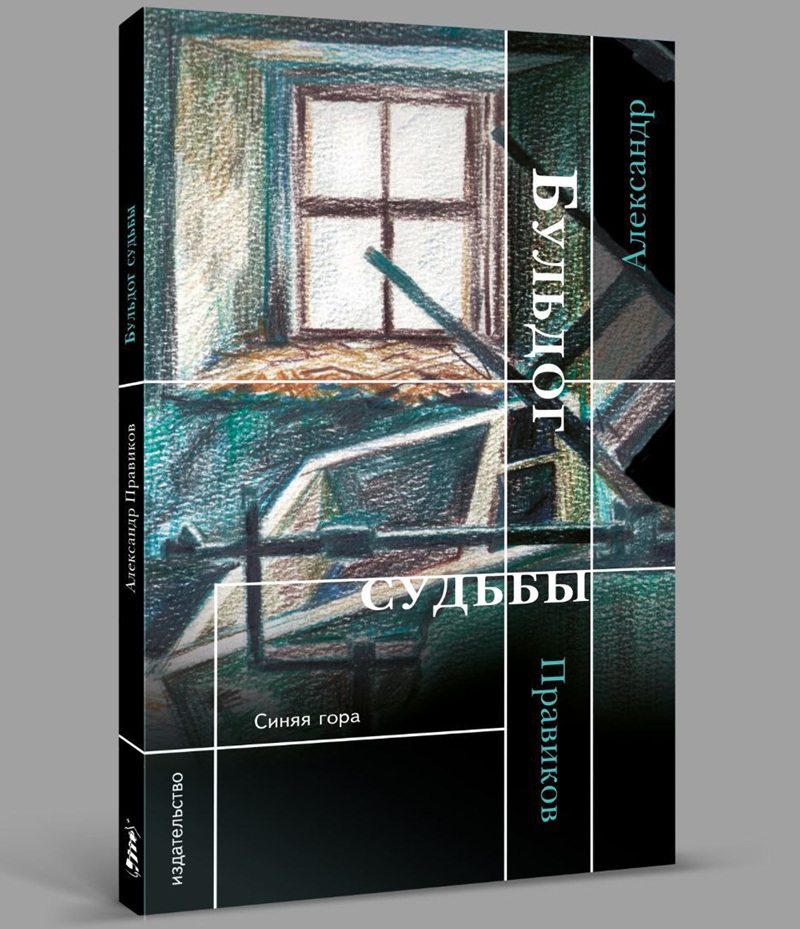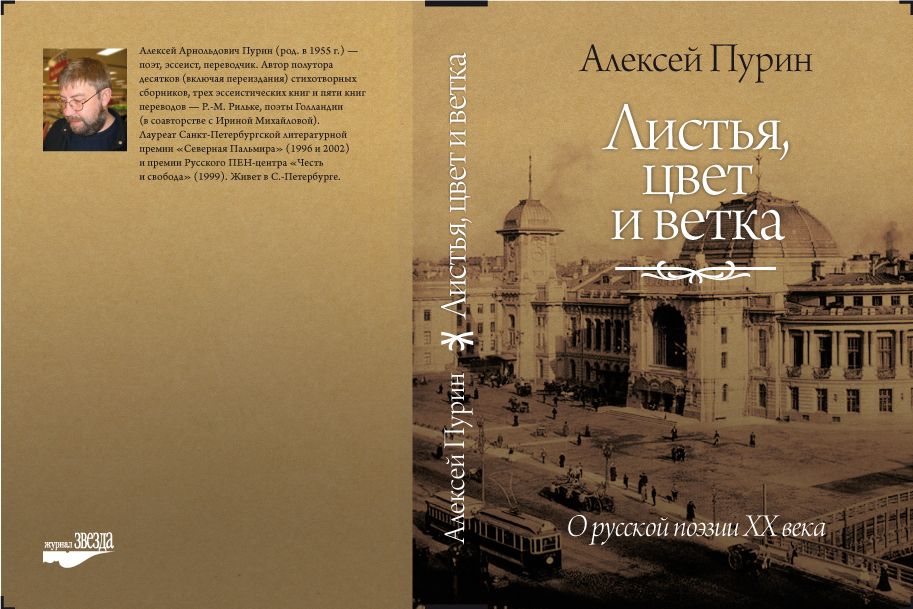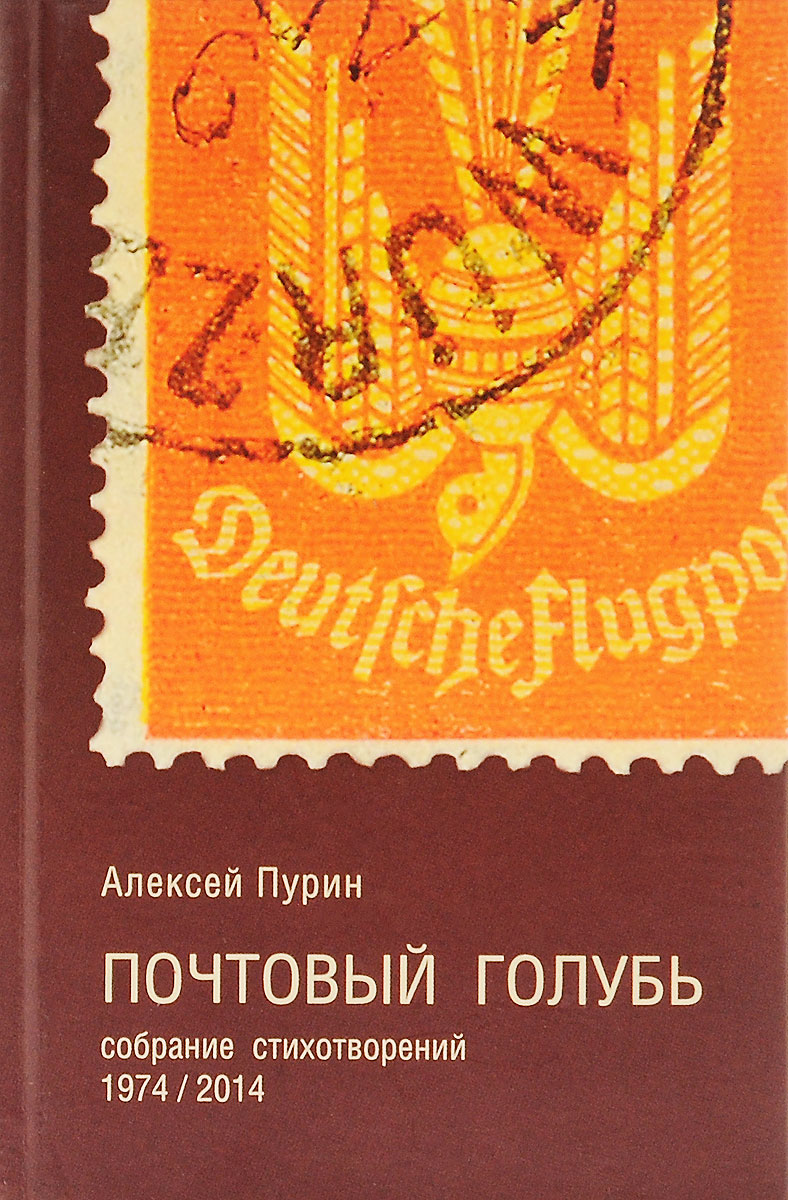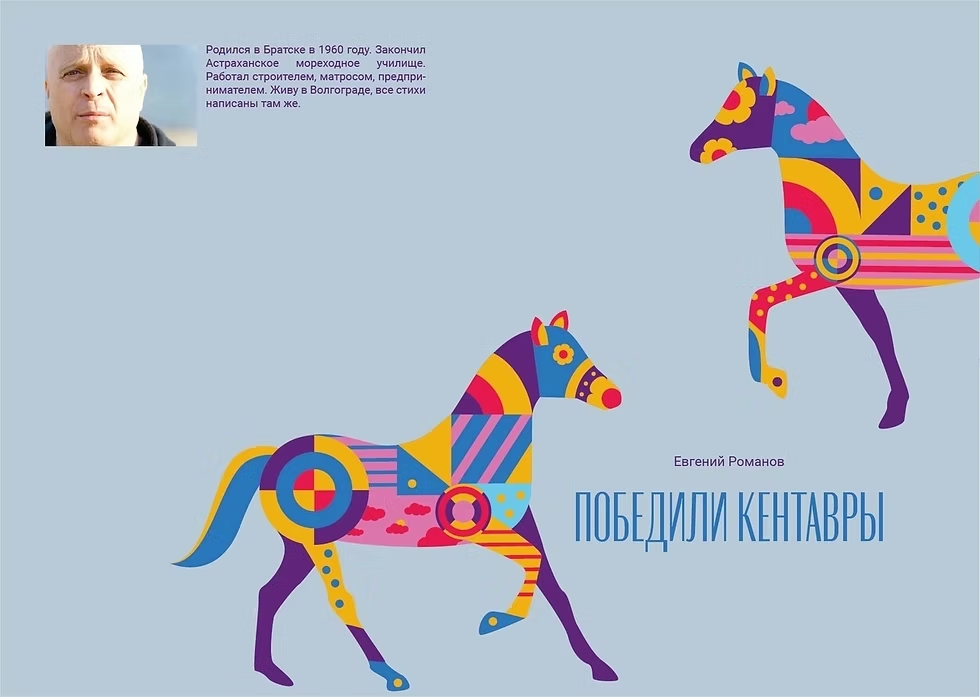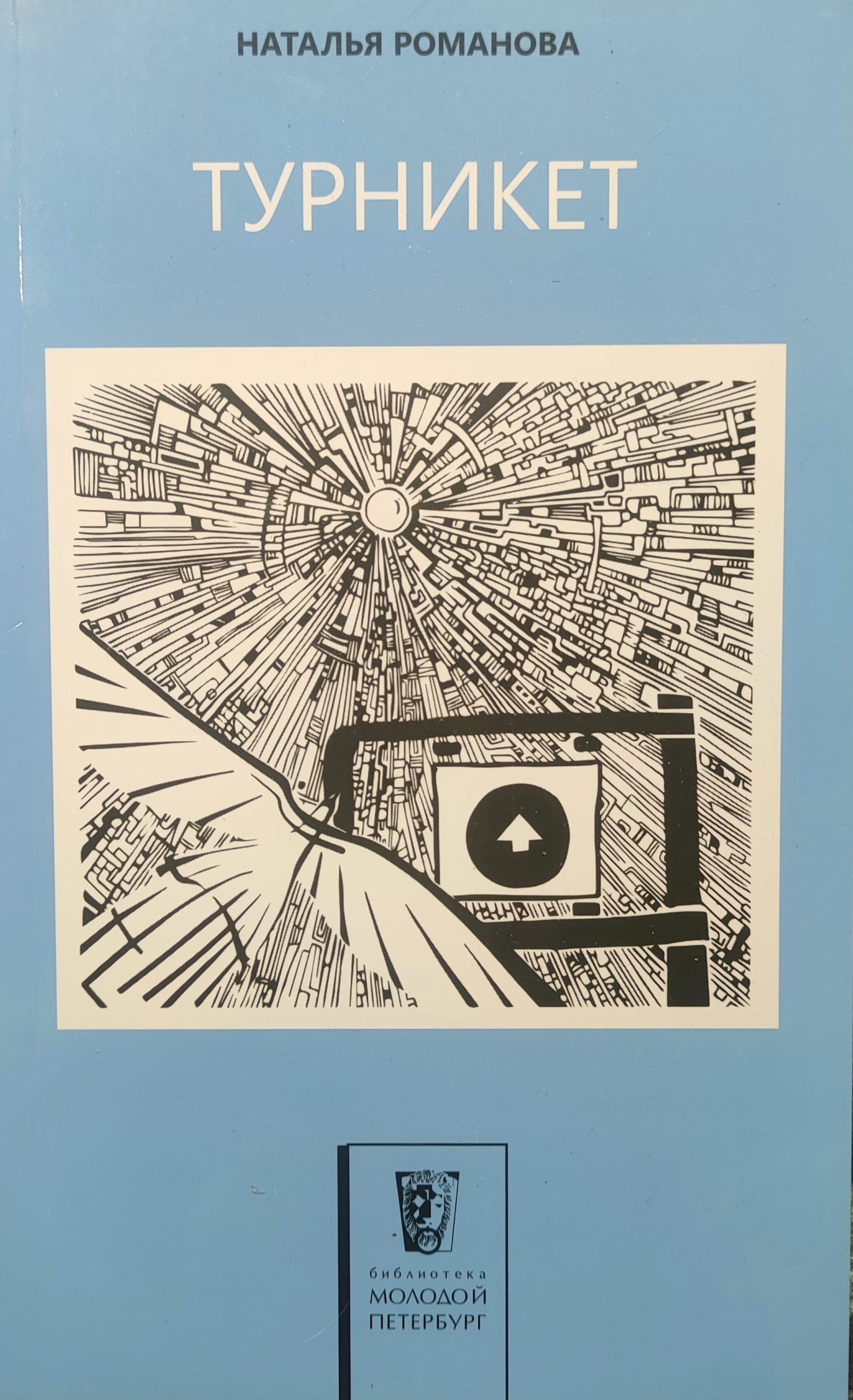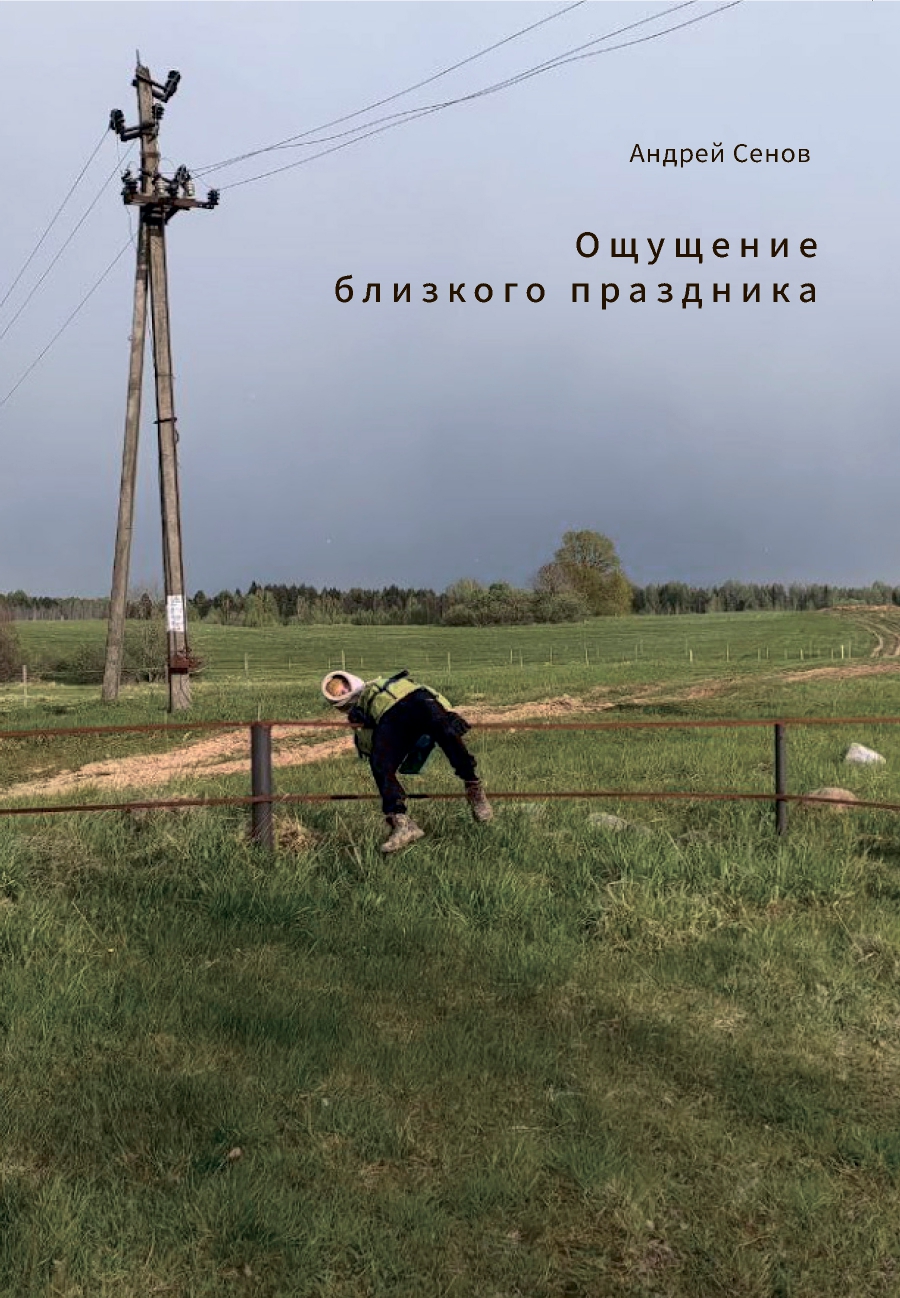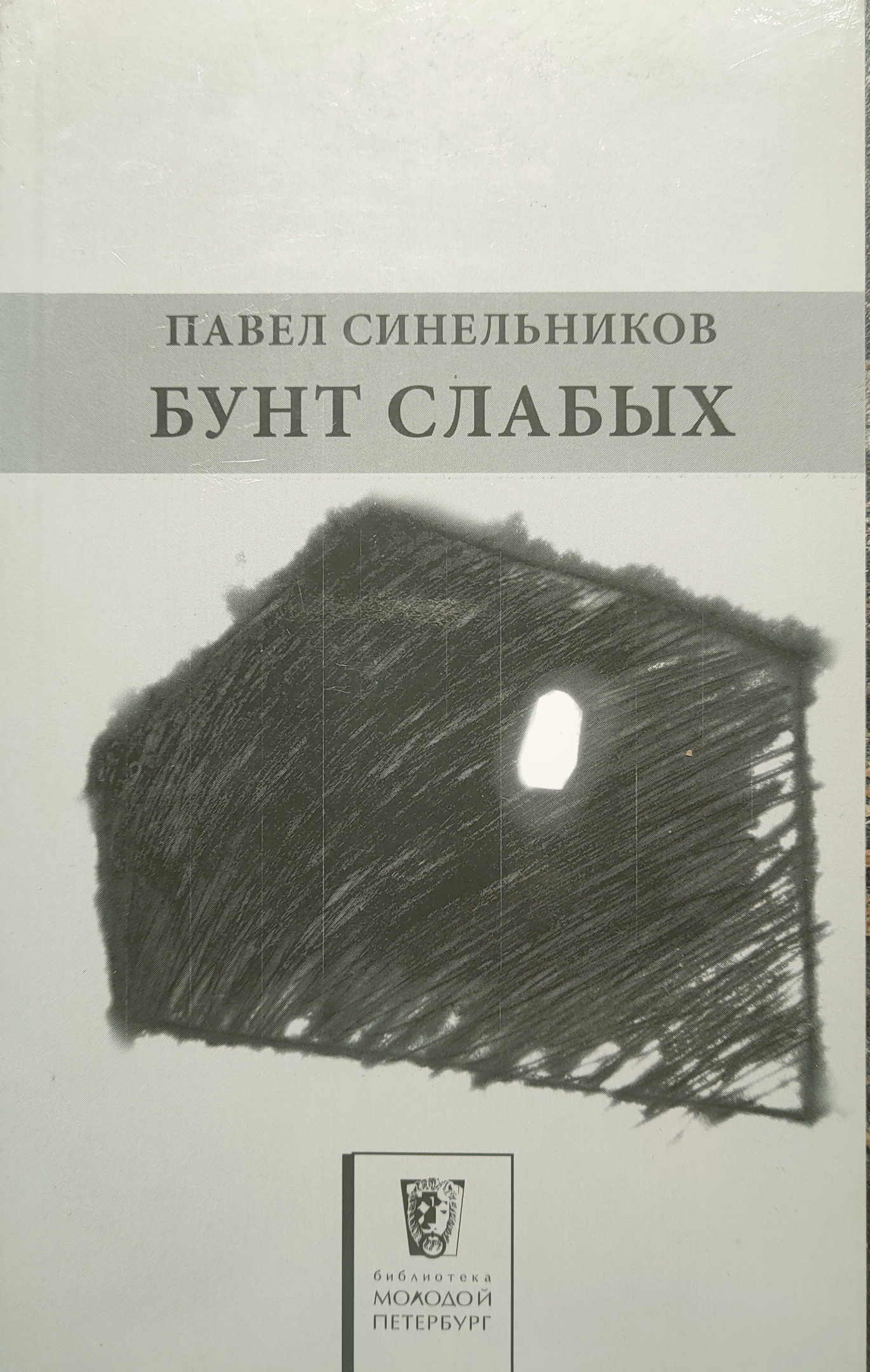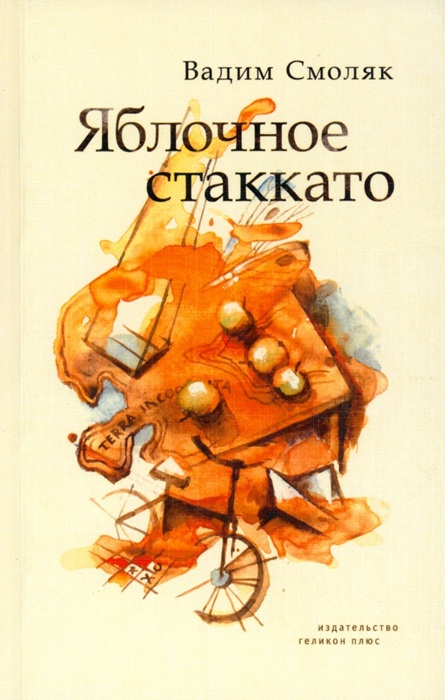Толстоба Д. Весны осенние приметы: Стихи разных лет (Серия «Петроградская сторона»). — СПб.: Геликон Плюс, 2016. — 220 с.
ISBN 978–5‑00098–051‑4
“…На излете советской власти в одном из литературных объединений Ленинграда собрались молодые люди, как и подобает кружковцам, не очень воспитанные, не очень образованные, без литературных связей и корней, зато самобытные и талантливые. Поэты в первом поколении, кометы беззаконные. Своеобразная советская плеяда, к сожалению, себя не осознавшая как новую русскую классику. Дмитрий Толстоба был лучшим.
Высоко ценивший порядочность и трудолюбие, сам основательный человек, он с отвращением относился к проявлениям богемности во всех видах. Чистота и точность его стихов — хирургические.
Я в лесах твоих, Россия,
Никому не делал зла.
Для меня змея красиво
Под осинами ползла.
Аллитерация позволяет нам услышать лесную встречу, однако такие милые штучки просто улыбки мастера. То, о чем он говорит куда глубже. Толстоба деликатно ввел нового неожиданного героя — свойского парня, даже еще проще — своего в доску, и если бы на этом остановился, получилось бы, безусловно, живо и свежо, но и немного плоско. Лирический герой оборачивается еще и иной, чудесной ипостасью. Там, где человеку «вообще» опасно, он как у себя дома. Не властелин и повелитель природы, а ее возлюбленный, точнее — возлюбленное ее дитя. Едва он вошел, все преображается, начинается счастливое возбуждение, все желает угодить и понравиться. Змея красиво ползет для того, кто, видимо, понимает толк в змеином ползанье, колокольчики цветут — для него, шмели гудят — для него, масленыши, похоже еще несмышленыши, тоже стараются не ударить лицом в грязь и принарядились. Едва впопыхах не ошиблась ворона, но система распознавания свой-чужой сработала вовремя и «не выклюнула глаз».
Если представить невозможное: из стихов Толстобы исчезли птицы, — увидим, как тексты побледнеют, заболеют, скукожатся.
Четвертая часть комнаты в купчинской квартире была отделена проволочной сеткой, в устроенном за ней лесном уголке распевали птички. Гостям демонстрировали фокусы, которым хозяин обучил питомцев: одиночные и групповые вылеты и возвращения. Так же легко залетали они и в строчки стихов, но их роль там была не декоративной, а сущностной и символической. Шедевр «Прогулка со снегирем» — это не о птичках, как и «Судьба».
Вышел из дому утром — ба!
Птиц не слышно в моем саду.
Если в его саду не слышно птиц, это очень плохо. Не к добру. И действительно: «На пороге стоит судьба. <…> К тебе. За тобой, — говорит. — Пора! <…> но гляжу на нее без зла. <…> она за своим пришла…»
Какая же это судьба? Так ходит только Смерть. Герой это отлично понимает, ему давно известно, что всегда:
ты бьешься с той, с единственной, с которой…
Она отлично видит в темноте.
А так как дело происходит утром, «это надо бы счесть за честь» и попробовать побороться.
В каждой жилке горит руда.
Мы посмотрим с тобой еще,
кто кого заведет куда.
Все это прекрасный и, в общем-то, традиционный зачин эпического произведения. Нетривиальными оказываются резоны, представляемые судьбе-смерти, в единоборство с ней вступает судьба семьи. Начинают женщины.
Бабка в финской лежит земле.
Мать на кладбище Южном спит.
Впрямую мертвыми близкие не называются. Герой очень осторожен, он идетв наступление на судьбу-смерть и не хочет пользоваться ее терминологией, отвоевывая плацдарм по крупинкам. Но есть усыпальницы, а есть Южное кладбище, и понятно, что женщины судьбой избалованы не были, первый укор судьбе.
Потому что в моей семье почитали и жены спирт. Это тоже на совести той, что «пришла забирать». «И» означает, что это вдобавок к сильной половине семьи, у которой тоже свои счеты. И бабушка, и мать названы не «женщины», а «жены». Не только стилистически высоко, но и исторически значительно, судьба семьи начиналась еще тогда, когда «жены почитали спирт», а не бабы водочку уважали. Не отсылка ли это судьбы в давние времена, не задолжала ли она еще там.
Мужская доля не счастливее. «Я не знал своего отца». А отец не знал сына. «Ты давно у него была?» Долгов за судьбой уже много, а счет далеко не исчерпан.
Брат на жесткой сидел скамье…
…………………………………
………….…погибла одна сестра,
и повесился брат другой.
И напоследок: «… в моей семье главный выродок — это я».
Судьба получилась не личная, а семейная, родовая.
Говорил таковы слова,
Отираючи пот со лба.
И судьба-смерть отступила: «видно, вспомнила времена — те, когда молодой была», когда начала терзать семью. Усовестилась, обернулась совой, начала чистить перышки.
Но отчего же герой «выродок»? Как-то так получается, что отверженным его делает именно поэтический дар. Выродок, потому что семья его стихов читать не станет. И ему в семье не жить как равному, стихи как раз мешают. «Сам себе я сыскал узду». А кто бы мог подумать сначала, что эта легкая и веселая игра со словами — узда, за которую из семьи уведут, а приведут ли куда? Ведь проблема не в том, что он стал поэтом и пишет стихи. А в том, что его поэзия высокая и по эстетике, и по технике, не попсовая. Зато по тематике и этике она ни в коем случае не элитарная. Даже нарочито, провокационно приземленная, не то что простая, а прямо-таки простецкая. «Сыскать узду» может только плебей, настоящий «аристократ духа» обретает или обнаруживает. Подспудно тема отринутости всегда присутствует. Кентавр в молодых стихах, кстати, тоже своеобразный выродок.
Судьба в значении «Рок» возникает в «Прогулке со снегирем». «Судьба — безвариантна». Фатальность жизненных событий вырисовывается сразу после осознания своего пути:
Мой путь пролег вдоль кладбища, застройки,
ларя пивного, крашенного в цвет
молочной кухни, и теплоцентрали,
чьи трубы с неба золото содрали,
чьи ротора в дома вогнали свет.
«Застройка» — явный эвфемизм, чтобы не повторять азбучную помойку. На таком пути судьба изначально предопределена. «Мой путь» в данном случае — это «моя жизнь». Но это не факты собственной биографии, а то, «вдоль» чего проходит поэт, панорама окружающего мира. Перед нами своеобразная реплика того, кто, «земную жизнь пройдя до половины», совершает свое путешествие. Только автор не на экскурсии, он часть этого мира. Поразительно, что начало его — кладбище. За местом упокоения людей идет место для «умерших» вещей — помойка. Застройка — то, что появляется на месте помойки. С отчим домом «застройка» ничего общего не имеет. Дальше — пивной ларь. Почему ларь? Ларек пивной прекрасно укладывается в размер, однако ларек только торговая палатка, в то время как ларь еще и ящик, емкость для хранения, учитывая контекст, герметичность и безысходность…
Лицемерие в особо циничной форме проявляется в раскраске фасада в радостные цвета детства. Пивные реки вместо молочных. Жизненное тепло дается только взамен утраченного небесного золота, а свет может появиться в доме лишь принудительно. Требуется глагол повышенной экспрессии — «вогнали»! Иначе никак.
Есть и другие пути — не «мои». Они не просто чужие, они противоположны, «вдоль Мойки». И, казалось бы, странно, но никакого интереса к благополучным прогулкам нет, все внимание сосредоточено на доставшейся прискорбной стезе. Не личная ли обида закрывает горизонты? Простодушный читатель может подумать и так, если невнимателен. Судьба не зла, даже покладиста. Она «сама устроится, подляжет. Порвется нить — она ее подвяжет». И делать ничего не надо, живи да радуйся. Можно и отступить. «Вот, например, гулять со снегирем». Только прогулки все равно не получится.
Совершенно неожиданно и только на краткий миг вместо сугубо лирического «я» возникает как озарение «нам» и «мы». И звучит как символ веры: «Но нам ништо — мы пасынки с рожденья».
Другой шедевр — «Заполярье». Стихотворение-предчувствие социального слома, когда человек, утратив ценность личную, индивидуальную, получит смысл лишь как деталь системы. На пути в Возей жестокая сортировка по «системным» приметам уже действует. Трубовозчики не берут —
я для них «человек в плаще».
«Икарусы» брезгуют «человеком вообще», «вахтовки» интересуются только своими. За рулем в «Икарусах», «вахтовках» и «трубовозчиках» как будто бы и нет водителей, сословная техника поглотила их. Ссылки на прошлые заслуги — «я на Севере пятый раз» — ничем не помогают. Смешно звучат для сетевых монстров аргументы родовой общности: «чей-то муж я и чей-то зять». Верный путь к успеху — минимизация человеческого, а его полная утрата — идеал перевоплощения:
Все подумают, что бревно,
и тогда подберут меня.
Среди жертв контрреволюции 90‑х и муза Дмитрия Григорьевича Толстобы. В прошлом году не стало его самого.
Светлая ему память”.
Ирина МОИСЕЕВА “КЕНТАВР ПЕТРОГРАДСКИЙ” (НЕВА 8’2017)