* * *
Недавно умер один из лучших поэтов нашей организации, да что там организации, нашего города — Александр Комаров. В некрологе на сайте Дома писателя сказано, что он был «спокойный, уравновешенный, мудрый». Это неправда. Не было в нем никакого спокойствия и уж тем более уравновешенности. Он был нервным, желчным, импульсивным, как и положено настоящему поэту. Даже вести семинары молодых мы его перестали приглашать, поскольку не мог он взвешенно подойти к начинающим поэтам — раздражался, злился, ругался. Не желал мириться с очевидным несовершенством. Не педагог. Какая уж тут мудрость? Составителей некролога понять можно: они хотели как лучше. Но мне хотелось сказать правду. Александр Комаров был истинным поэтом, со всеми выкрутасами и издержками своей мало востребованной сегодня профессии — пьющим, вздорным, неудобным, бескомпромиссным, чутким. А каким может быть человек, который слышит окружающий мир значительно лучше собеседников? Да его каждый резкий звук ранит, каждая неправильная нота саднит. Так многие женщины с острым обонянием испытывают муки мученические, находясь в общественном транспорте в час пик. Ладно, не это главное. Если коротко о главном, то Комарова больше нет. Лет пятнадцать назад я писал о нем:
Что ж нам делать в стране, где не слышен совсем Комаров?
Голос лучших поэтов слабей комариного писка!
Да, совершенно очевидно, что его ухода не заметит ни город, ни страна. А для нашей писательской организации это утрата невосполнимая. Горе горько. Дам напоследок одно из моих любимых его стихотворений:
Я полагаю так: не будет крупным риском
риск выразить себя стихом александрийским.
Ведь, как душа велит, — так говорят уста,
а рифма парная надежна и проста.
Твердят: «Размер тяжел, стал скучным, неудобным…»
Глумиться бросьте вы над ямбом шестистопным!
Любой размер хорош. Запретных ритмов нет.
Все дело только в том, каков ты сам, поэт.
Поэт не должен быть ни толстым и ни лысым.
Красавцем должен быть, и в этом — главный смысл.
А если толст живот, вкруг лысины венец
из реденьких волос, то, на худой конец,
пусть — как душа велит, так говорят уста,
а рифма парная — надежна и проста.
* * *
В книге «Моего ума дело» я уже комментировал стихотворение Александра Вергелиса «Я написал ему sms…». Приведу его и здесь, чтобы освежить в памяти:
Я написал ему sms:
«Привет! Как дела? У нас
всё как обычно. Мне скучно без
тебя. Я с твоей сейчас
чокаюсь фоткой, где как всегда,
ты тянешь ко мне стакан».
Я бы ему не писал тогда,
если бы не был пьян.
А раньше, бывало, напьется он
и пишет мне всякий бред.
Я тяпнул еще, отложив телефон,
и вдруг — получил ответ…
«Ну здравствуй. Я в норме. Тут ничего».
Я не упал едва.
Потом догадался: скорей всего,
жена, виноват, вдова
мне подыграла, никто иной,
с юмором и слезой.
Видно, не зря собутыльник мой
звал ее стрекозой.
Когда бы такая была дана
возможность, я б написал,
как по нему до сих пор она…
А впрочем, он знает сам.
Когда оно написано, не знаю, но прочел я его в журнале «Знамя» в 2016 году. Довольно сильные стихи, к тому же подобный случай с небольшой разницей мной пережит на собственной шкуре. Не буду останавливаться на подробностях, поскольку это в «Моего ума дело» описано и к нашей теме относится мало. А относится то, что в том же «Знамени», но за 2005 год (то есть за одиннадцать лет до) вышло замечательное стихотворение Александра Кушнера:
Долго руку держала в руке
И, как в давние дни, не хотела
Отпускать на ночном сквозняке
Его легкую душу и тело.
И шепнул он ей, глядя в глаза:
Если жизнь существует иная,
Я подам тебе знак: стрекоза
Постучится в окно золотая.
Умер он через несколько дней.
В хладном августе реют стрекозы
Там, где в пух превратился кипрей, —
И на них она смотрит сквозь слезы.
И до позднего часа окно
Оставляет нарочно открытым.
Стрекоза не влетает. Темно.
Не стучится с загробным визитом.
Значит, нет ничего. И смотреть
Нет на звезды горячего смысла.
Хорошо бы и ей умереть.
Только сны и абстрактные числа.
Но звонок разбудил в два часа —
И в мобильную легкую трубку
Чей-то голос сказал: «Стрекоза»,
Как сквозь тряпку сказал или губку.
……………………………………..
Я‑то думаю: он попросил
Перед смертью надежного друга,
Тот набрался отваги и сил:
Не такая большая услуга.
Забавно, что если к стихотворению Вергелиса у меня претензий нет, то к стихотворению его предшественника, я бы, как старый критикан, все-таки пару замечаний высказал.
Первое — смысловое. Герой ясно дает понять героине: «стрекоза постучится в окно», т. е. окно должно быть закрыто. А она, вопреки четким инструкциям, «до позднего часа окно оставляет… открытым». Чего же жаловаться на результат? И второе, уже чисто литературное: «Чей-то голос… как сквозь тряпку сказал или губку». Вот это-то избыточное (тряпку, губку) загробное нагнетание здесь совершенно ни к чему. Оно слишком театрально для такого тонкого стихотворения. И так уже — холодок по коже.
К чему я все это? К тому, что разные поэты иногда совершают одинаковые открытия, хотя лексика, метр и антураж совершенно разные. И дело даже не в том, что сюжетный ход одинаков. Интересно, что у обоих выход из метафизики, то есть из области, лежащей за пределами физических явлений в нашу обычную, повседневную реальность, может быть не менее чудесным, чем противоположное движение — из быта в эмпиреи. А ведь последним заняты во все времена большинство литераторов: моделируют выход из обыкновенных реалий в трансцендентальное. Но мирское объяснение иногда, оказывается, не уступает в возвышенности надмирному. Собственно, решение таких задач и есть прерогатива настоящей поэзии… Да еще эта стрекоза. Но тут, я полагаю, «жирный» привет от Мандельштама из января 34-го года: «О боже, как жирны и синеглазы стрекозы смерти…». Не сомневаюсь — оба автора читали это (в отличие от стихов друг друга, я полагаю). Уверен, что написали и Кушнер, и Вергелис своих стрекоз независимо. Такое бывает, да и тема эта, в общем-то, что называется, на поверхности. А все-таки интересное пересечение.
* * *
Олег Чухонцев в 1970 году хорошенько пуганул читателя своим:
…И уж конечно буду не ветлою,
не бабочкой, не свечкой на ветру.
— Землей? — Не буду даже и землею,
но всем, чего здесь нет. Я весь умру.
— А дух? — Не с букварем же к аналою!
Ни бабочкой, ни свечкой, ни ветлою.
Я весь умру. Я повторяю: весь.
— А Божий дух? — И он не там, а здесь.
То, что он практически содрал свои стихи с Анны Ахматовой, почти никого не смущает. Он даже размер особенно не меняет, лишь добавляя к своему ямбу лишнюю стопу. Его извиняет то, что он сделал это лучше. Мощнее. У нее это выглядело так:
Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковою водой,
Ни колокольным звоном —
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.
Думаю, что стихотворение Чухонцева — одно из лучших, написанных в XX веке в жанре философской лирики. Но Ахматова первая, и — раньше на тридцать лет. Это немало.
Оба в этих стихах не решают религиозных вопросов. Оба не занимаются здесь как бы изначально заявленной эсхатологией. Они поэты. Игроки в смыслы и звуки. Они натурально пугают свою паству и делают это несколько безответственно, но грамотно!
* * *
Александр Кушнер написал когда-то о бюсте Гоголя на школьном шкафу:
Быть классиком — значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О, Гоголь, во сне ль это все, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.
Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться — куска проглотить
Не мог при свидетелях — скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?
…
Стихотворение знаменитое, нет нужды приводить его целиком, все и так знают. Мне кажется, я нашел предтечу этого стихотворения. Это «Памятник» Люкина, которого сегодня мало кто помнит:
Он век трудился, устали не зная,
Век хлопотал в цеху у верстака.
А если бы ему судьба такая,
Что памятник отлили б на века?
Стоял бы он, стеснялся бы кого-то,
Большой, сутулый, воплощенный в медь,
И руки, отнятые от работы,
Так и не знал, куда бы деть.
Был такой нижегородский поэт Александр Люкин (1919—1968). Считался лучшим поэтом Волги, народным поэтом. Коммунист, фронтовик. При жизни издал всего четыре сборника стихов. Его памятник короче, суше и в чем-то, наверное даже, сильнее кушнеровского «Бюста», но, возможно, именно он послужил толчком к написанию последнего. И, конечно, Кушнер развил и наполнил его по-своему, чего ж говорить.
* * *
В очередной раз о рифме. Какой удивительно неряшливый ряд дилетантских рифм у Мандельштама в стихотворении «Я наравне с другими хочу тебе служить…»:
ревную — несу я
назову я — чужую
любовь — кровь
тебе — в тебе
тебя — тебя
хочу я — ревную
И какие при этом волшебные сами стихи! Целых восемь строф, а стихотворение совсем небольшое. Так часто бывает — накал текста таков, что претензий к рифме как бы и не возникает. Не до нее, как будто! Собственно, именно таким должен быть настоящий верлибр: содержание, его составляющее, должно быть такой силы и могущественности, что отсутствие рифмы никак не сказывается на восприятии. Как у Валентина Голубева:
Написать стихотворение —
Это поставить рядом хотя бы два слова так,
Как стоят под венцом жених и невеста,
Так, как стоят рядом отец и сын
На краю вырытой ими ямы
Перед расстрелом.
Сами верлибристы ошибочно думают, что писать без рифмы просто. На этой системной ошибке постоянно и проваливаются.
* * *
Кто сказал, что стихи о стихах — плохой тон? Кто этот законодатель? Просто писать о них нужно хорошо, как, впрочем, и обо всем остальном. В 1976 году Вадим Шефнер написал «Размышления о стихах». Его вполне можно выставлять как учебное пособие:
Стихи — не пряник и не кнут,
И не учебное пособие;
Они не сеют и не жнут —
У них задание особое.
Они от нас не ждут даров,
Открещиваются заранее
От шумных торжищ и пиров,
От хитрого преуспевания.
Милее им в простом быту,
Почти неслышно и невидимо,
Жить, подтверждая красоту
Всего, что вроде бы обыденно.
Но в громовые времена,
Где каждый миг остер, как лезвие,
На помощь нам идет она —
Великодушная поэзия.
Где гибель свищет у виска,
Где стены, как надежды, рушатся,
Припомнившаяся строка
Внезапно пробуждает мужество.
…Тоска, разлука ли, болезнь —
Что ни творится, что ни деется, —
Пока стихи на свете есть,
Нам есть еще на что надеяться.
Берите, штудируйте, перенимайте опыт! А еще Шефнер совершенно гениально написал про непростое умение сокращать свои стихи:
Потерей примесей ненужных
Обогащается руда!
Из книги Алексея Ахматова «Склад ума» (СПб., Издательство «Поэзия», 2025)





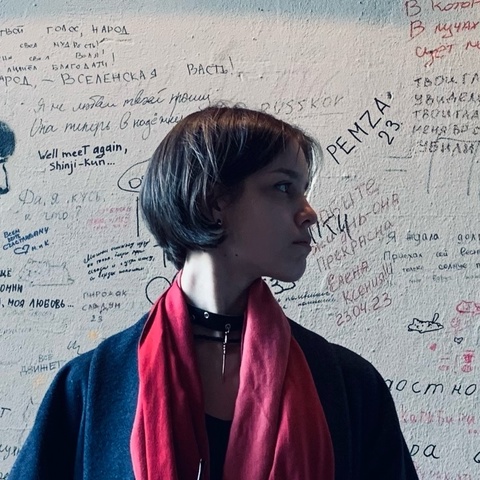
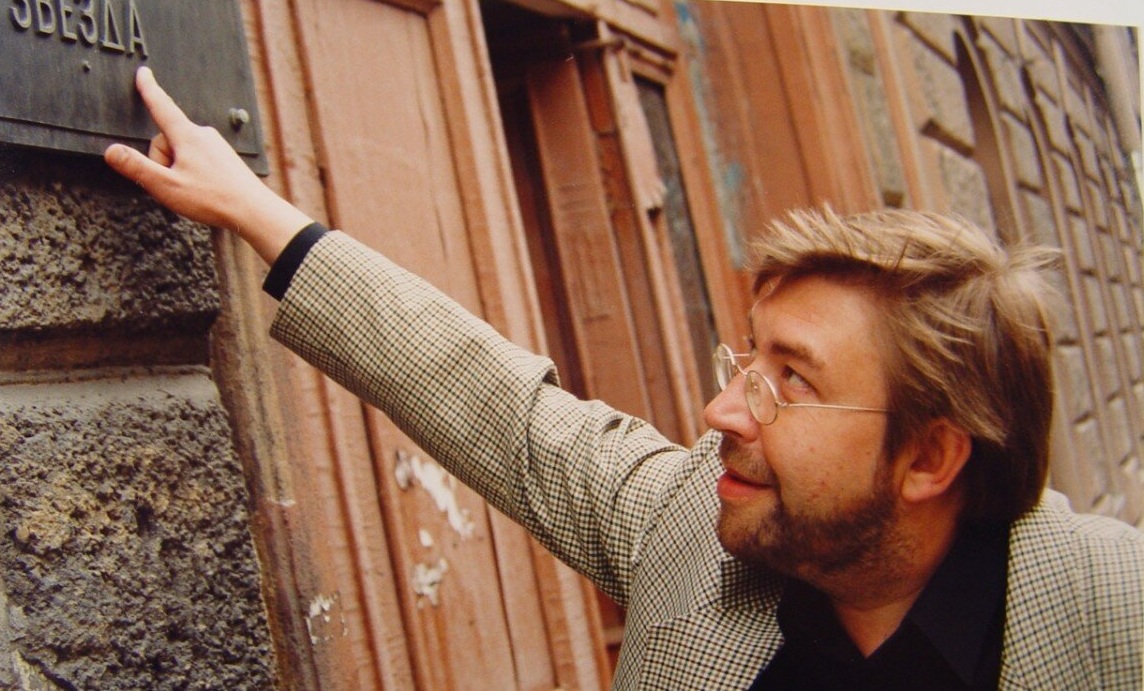

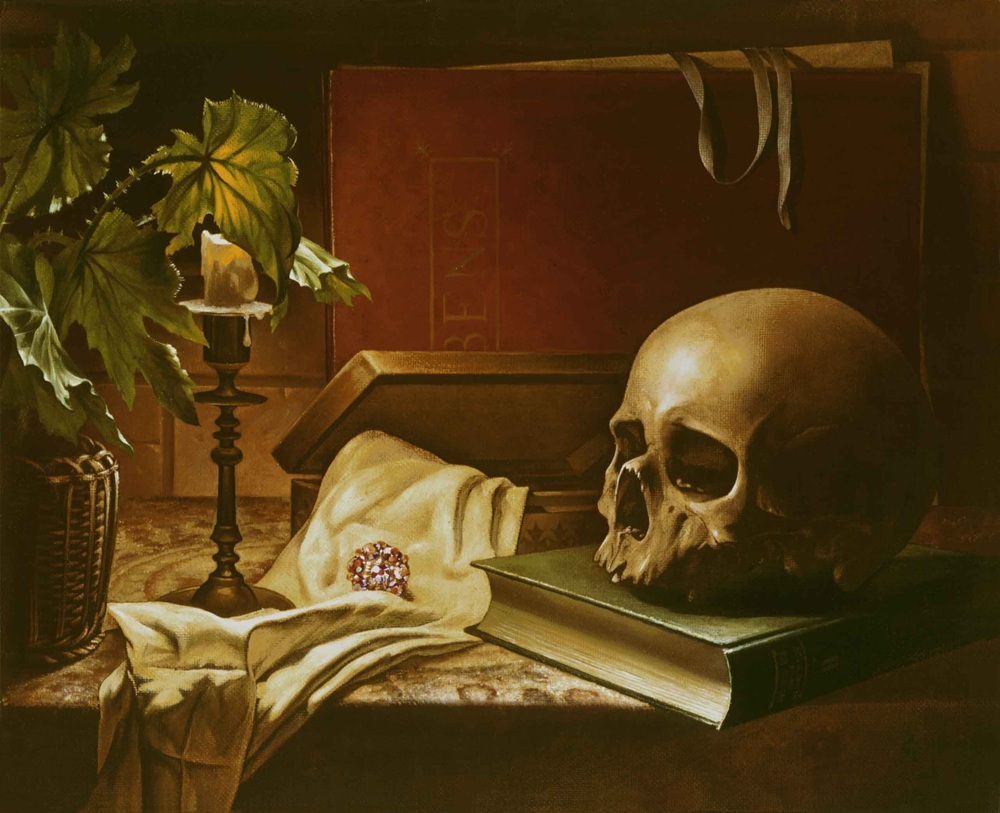


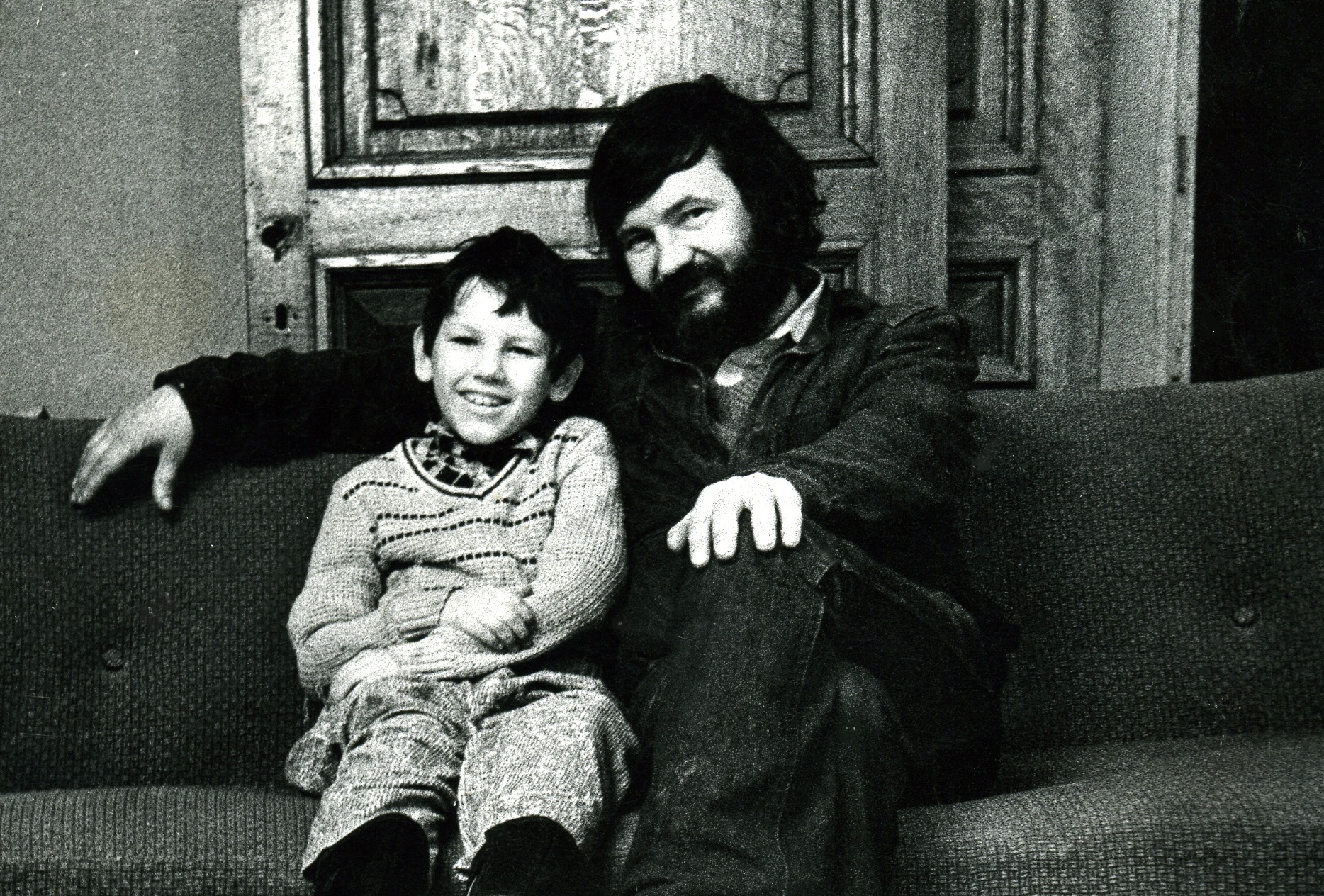

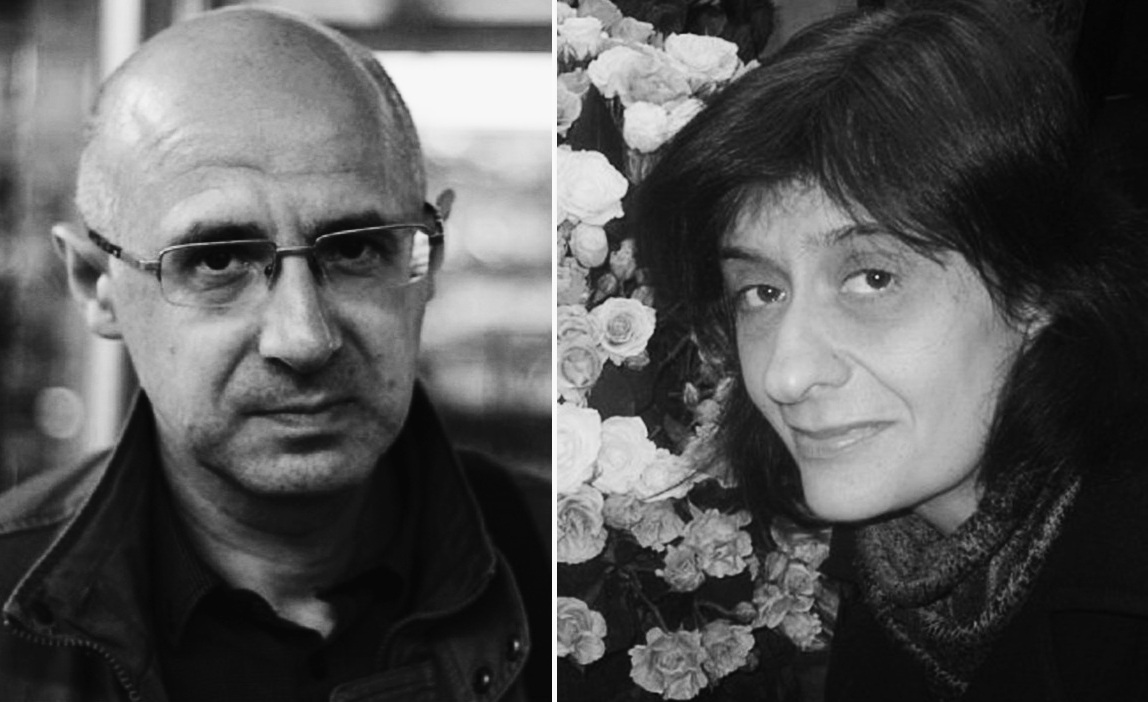
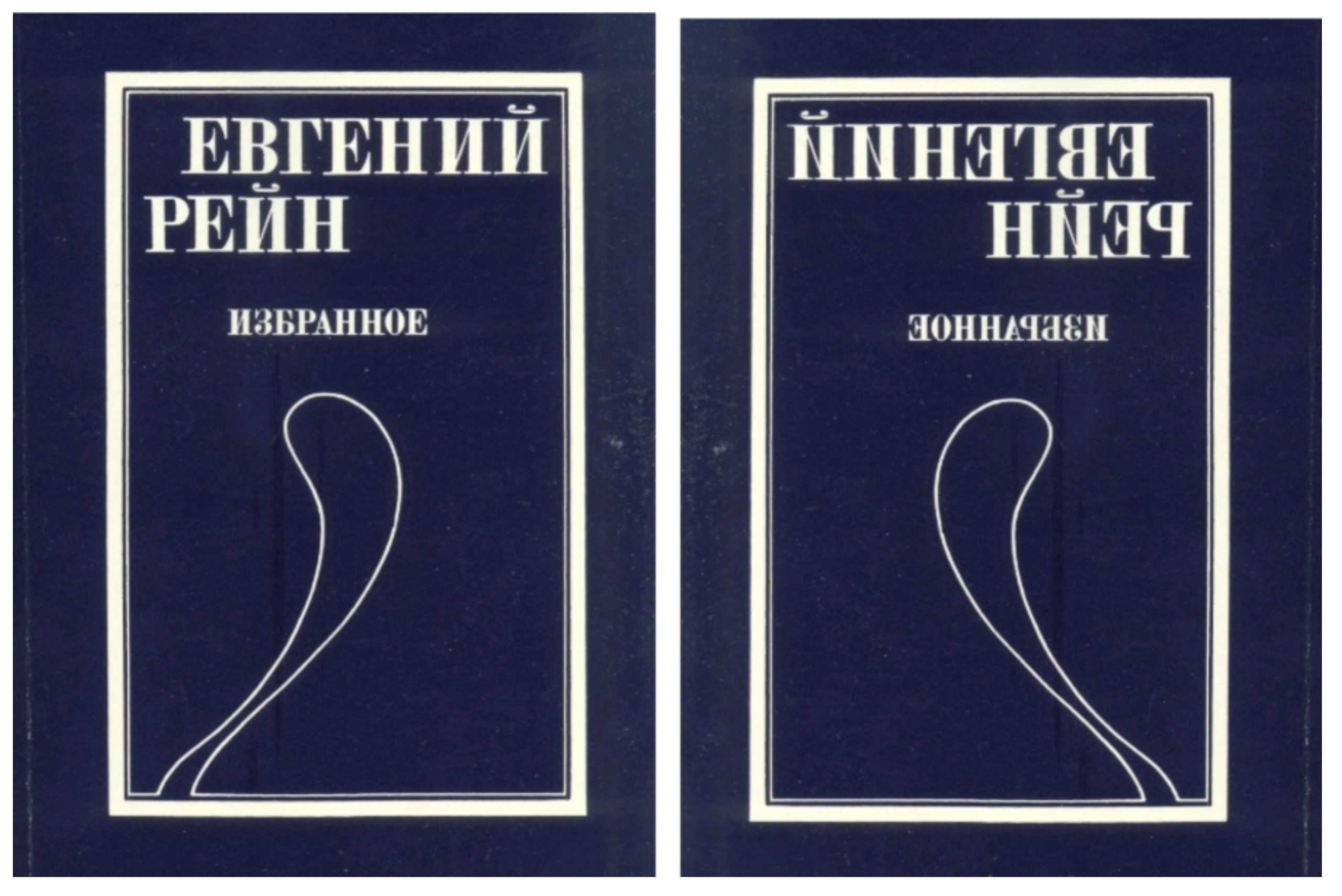
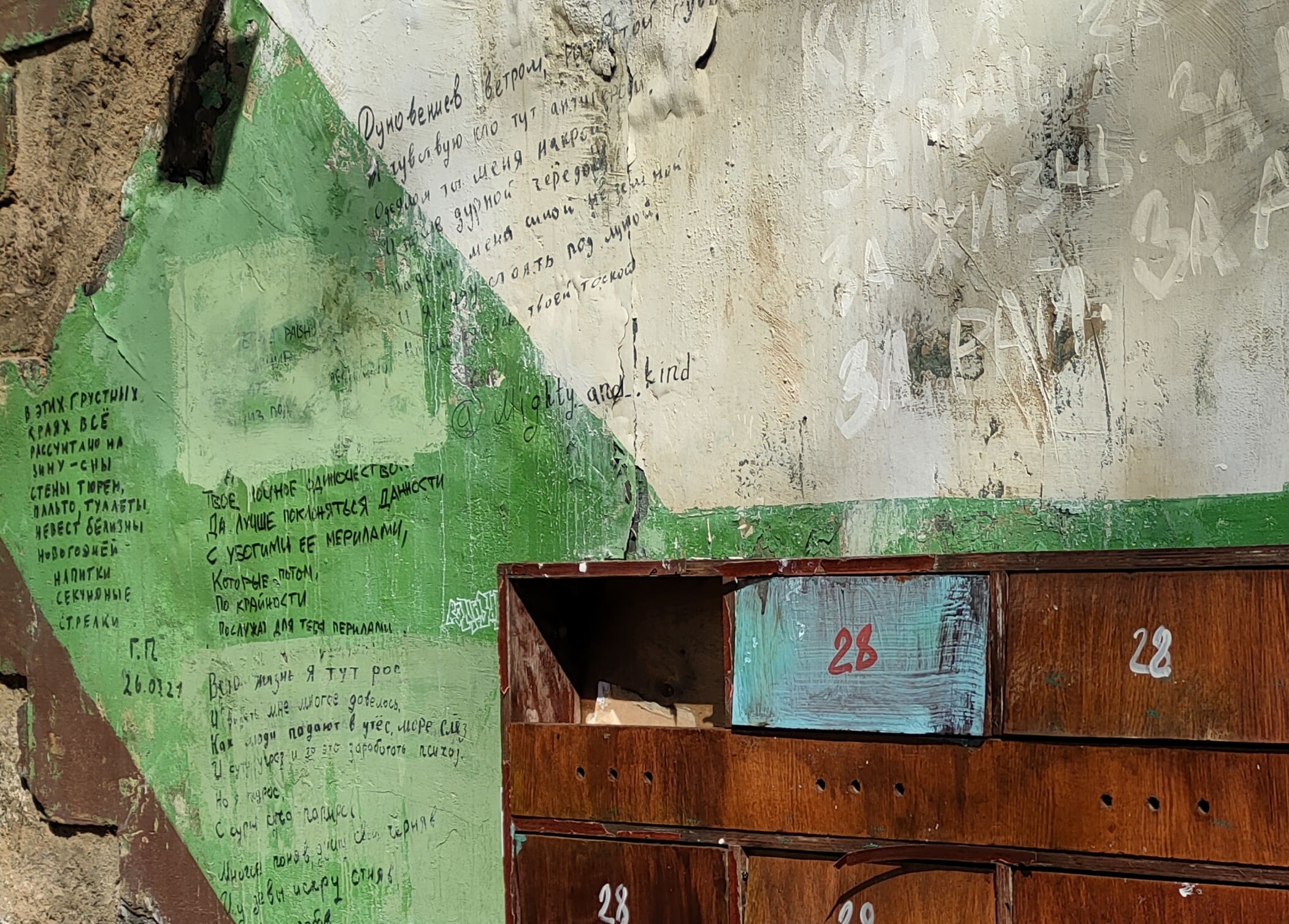


Комментарий (1)
Ирина Иолина
Спасибо, Алексей! Вы как всегда замечательно пишете и находите важные и нужные слова и стихи. Хотелось бы почитать вашу книгу целиком!