Александр Кушнер. Неизвестному другу: Новые стихи. СПб.: Геликон плюс, 2024
Книгу стихов (не сборник, а именно книгу) необходимо читать последовательно, от первого стихотворения до последнего. Современный поэт заботится о структуре, о композиции, выстраивает свои тексты в определенном, глубоко осмысленном порядке, подразумевая развертывание некоего лирического сюжета. Однако книга лирики тем и отличается, например, от романа, что и раскрытая наугад, посередине, порой может сразу подключить читателя к главным смысловым линиям, пронизывающим весь корпус собранных под одной обложкой произведений. Так может произойти, например, если новую книгу Александра Кушнера «Неизвестному другу» случайно открыть на развороте сороковой и сорок первой страниц. Два соседствующих здесь стихотворения посвящены, пожалуй, главной проблеме, волнующей поэта, — проблеме оправдания Творца и Его творения.
Мир был создан за одну неделю, напоминает своему читателю — тому самому «неизвестному другу» — на сороковой странице поэт и с дружески-доверительной интонацией делает неожиданный вывод:
Согласись, что Всевышний поторопился.
В обоснование этого нарочито простодушного суждения приводятся ураганы, чума, вулканы и даже колючий куст, царапающий человека (если бы куст не царапал, а гладил, люди были бы лучше, заключает в концовке поэт). Но что ураганы, что кусты — настоящим символом несправедливости мироустройства являются слепорожденные дети (этот бесспорный аргумент бессмысленности, неоправданности земного страдания самых невинных существ приводится поэтом в новой книге не единожды).
На контрасте с этим по-детски наивным (или попросту архаичным) взглядом на акт сотворения мира и самого Творца, рядом, на странице сорок первой, автор помещает стихотворение, посвященное, собственно, бытию Божьему. Начиная с критики библейской формулы о сотворении человека «по образу и подобию» Создателя, с констатации немыслимости того допотопного допущения, что Всевышний выглядит так же, как человек, имея пару рук и пару ног (не считая прочего), поэт приходит к мысли о невозможности репрезентации Бога в человеческой системе координат:
Да, он человечен, но человечьего
В нем нет ничего, его жизнь безбытна.
Александр Кушнер как поэт-мыслитель, судя по всему, далек от свойственного некоторым вероучениям утверждения об абсолютной иррациональности и непроницаемости воли Всевышнего, о принципиальной неизмеримости Его дел человеческим аршином. И все-таки, признавая «человечность» Бога, поэт вынужден признать, что постичь Его природу с помощью людской оптики невозможно, и в финальных строках как будто вовсе закрывает тему:
О Боге ни с кем говорить не следует:
О душу чужую душа поранится.
Но, если читатель вслед за автором этой рецензии случайно перелистнет страницу назад и окажется на тридцать девятой, он встретит знакомый по многим прежним стихам Александра Кушнера образ Бога — абсолютно земного, человеческого, можно сказать, обывательского облика и склада. Вот Он, ревниво листающий учебник палеонтологии, который Его «се´рдит пустяками», однако в конечном итоге увлекает, всецело завладевает Его вниманием:
Но, видя смысл в любом отросточке,
Молчит, глазам своим не веря,
Когда Кювье ему по косточке
Воссоздает громаду зверя.
Разумеется, нельзя воспринимать рисуемую здесь поэтом картинку как его действительное представление о Боге — и тем более как попытку навязать читателю некий образ Всевышнего. Да, только с таким провиденциальным собеседником лирический субъект и мог бы разговаривать — со скроенным по своему интеллигентскому «образу и подобию» внимательным и чутким alter ego, всегда находящимся рядом, как какой-нибудь добрый сосед, зашедший на чашку чая. Да, только в таком «формате» и возможен по-человечески внятный диалог. Однако автор, с видимым удовольствием (и не без иронии) изображающий Создателя именно таким, тем самым исподволь как бы подчеркивает немыслимость подобного общения. Тем более что во время взаимоприятной беседы за чаем может возникнуть тот самый прокля´тый вопрос о чуме, Везувии и слепорожденных детях…
А еще, например, — о динозаврах, которых Господь зачем-то создал и для чего-то так долго наблюдал за их бессмысленной, напрасно обременяющей планету жизнедеятельностью:
И ребенку такой бы мультфильм надоел,
Растянувшийся на миллионы
Лет, — хвостов их змеиных, раздувшихся тел,
Перепончатых крыльев фасоны.
Понятно, что для Бога эти миллионы лет — как один миг, и что пребывает Он не во времени, а в вечности, но в этом-то и заключается принципиальная несовместимость предвечного Творца и его смертного творения — человека. Впрочем, лирическое стихотворение — не богословский трактат, и в нем возможно все, в том числе подобный скачок мысли:
Ах, и Бог здесь, скорее всего, ни при чем,
А во всем виновата Природа.
Однако и Природа в данном пантеистическом контексте — нечто если не мыслящее, то во всяком случае чувствующее, вытерпевшее сначала гигантских чудовищ-ящеров, а ныне терпящее не менее чудовищное человечество с его Иродами, «ужасами, казнями, враньем». Терпение это, разумеется, не бесконечно,
Но шиповник цветет у дороги…
Этот шиповник не то чтобы всё искупает, но его присутствие (кстати, весьма колючее!) служит частичным оправданием торопливости Создателя и придает некоторую уверенность его младшему коллеге по творческой работе — поэту, влюбленному в этот наспех сделанный, несовершенный, ужасный и одновременно прекрасный мир:
И воистину, после Освенцима жить
И стихи сочинять неприлично.
Но пишу — так шиповник цветет, может быть,
Безоглядно, бесстыдно, привычно.
Почему стихотворение, начинающееся с бронтозавров, птеродактилей и диплодоков, заканчивается шиповником, цветение которого здесь сравнивается с «неприличной» работой поэта? В этой сюжетно-смысловой непредсказуемости — особая прелесть лирики Александра Кушнера, почти каждое произведение которого завершается неожиданным, порой парадоксальным финалом. И как тут не вспомнить потрясающую концовку стихотворения, опубликованного в одной из предыдущих книг поэта, — ту, где Главный собеседник благодарит его за желанное утешение, за уверение в том, «что Он не виноват ни в чем, что жизнь сама угрюма и сурова» («Ко мне он не сходил с Синайской высоты…»).
Лирический субъект стихов Александра Кушнера не просто выдумывает или, точнее, творит Бога — он относится к своему творению по-человечески — оправдывает Его, сочувствует Ему, жалеет Его (как ни кощунственно все это выглядит с точки зрения традиционной религии). И — продолжает радоваться и ужасаться независимому течению жизни, с изумлением глядя на этот поток зоркими нестареющими глазами. А на него самого в это время втайне смотрят осенние дубы и кусты с первой страницы книги:
Я дубам не скажу, что они облетят,
И кустам не скажу, что они пожелтеют.
Их незнанью об участи жалкой я рад,
Может быть, и меня они втайне жалеют.
Взаимная жалость — вот скрепляющее и оправдывающее этот мир начало, она — сестра доброты и, следовательно, хорошего рода. И тут опять на память приходят другие, давно ставшие хрестоматийными стихи — например, знаменитое раннее стихотворение о графине с водой, герой которого физически ощущает «холодок / Невыносимой жалости к предметам». Нельзя не отметить, как часто поздние стихи поэта перекликаются с ранними, написанными в другую историческую эпоху — никакого забвения прежних тем и творческих принципов, благодарной юношеской восторженности перед чудом жизни, перед Природой и Искусством, никакого разочарования, отречения от себя прежнего мы не видим. И это не может не радовать: в поэзии восьмидесятивосьмилетнего Александра Кушнера жизнь не состарилась, мир не одряхлел, и все так же способен удивлять и щедро расточать дары. Видеть и принимать эти драгоценные дары дано не каждому, но этому можно научиться, и ясные, внятные, точные стихи Александра Кушнера могут помочь в этом деле тому «неизвестному другу», который возьмет эту книгу-послание в руки и станет читать — хоть с первой страницы, хоть с последней, на которой напечатано стихотворение, отсылающее читателя к пушкинскому «Памятнику». И завершающееся этими строками:
Чем хорошо в стихах бессмертие?
Тем, что моей в нем нету выгоды.
Опубликовано в журнале “Звезда”, № 1, 2025

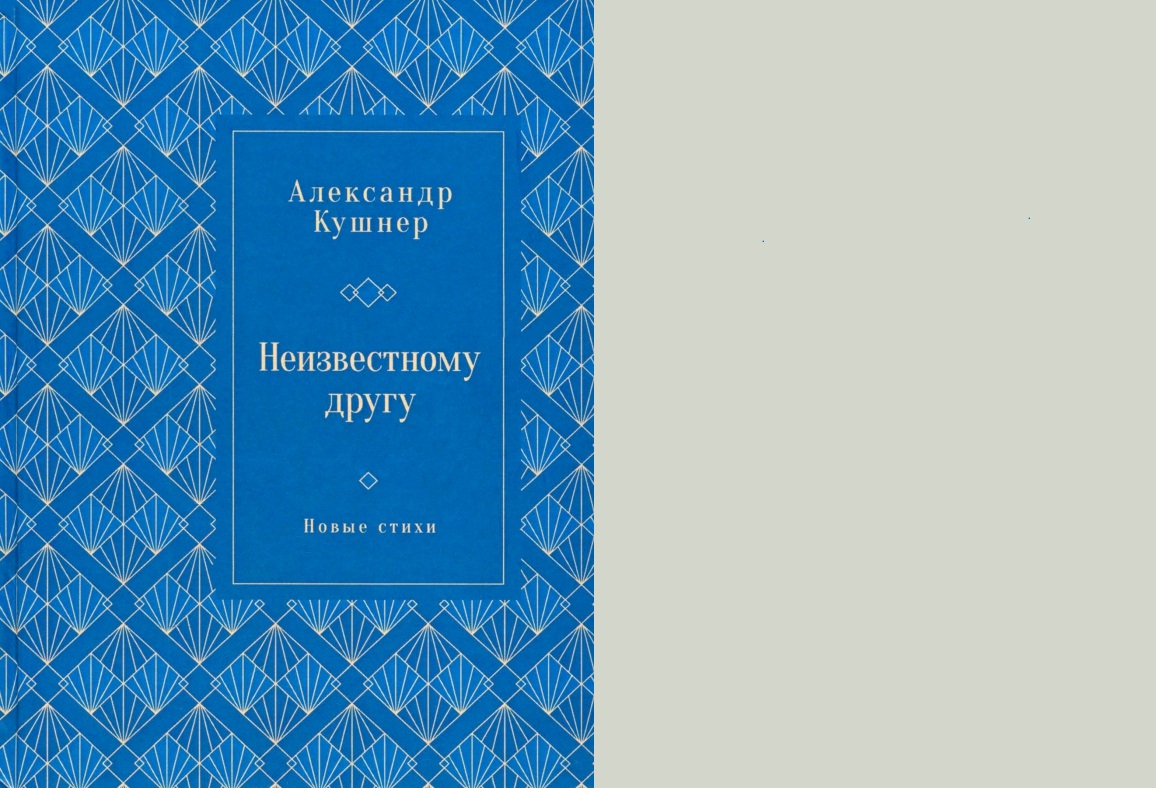




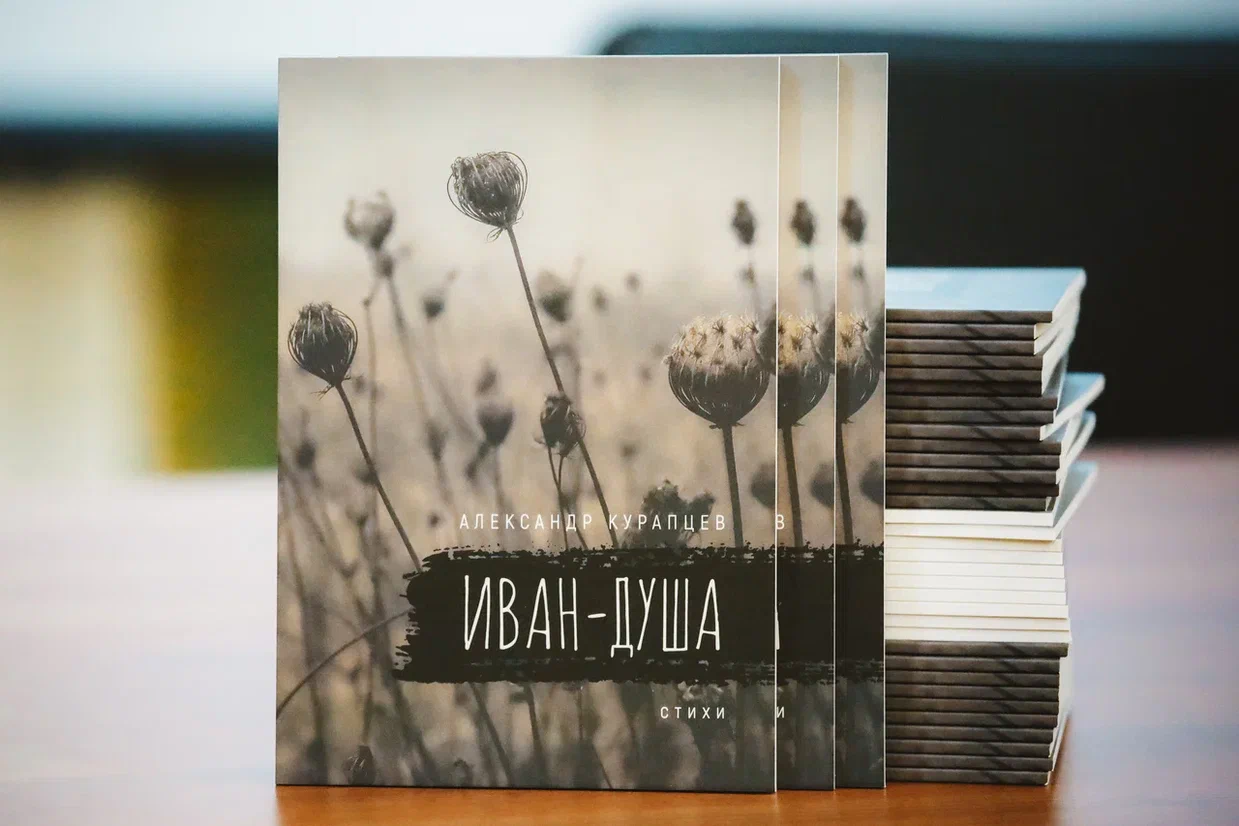
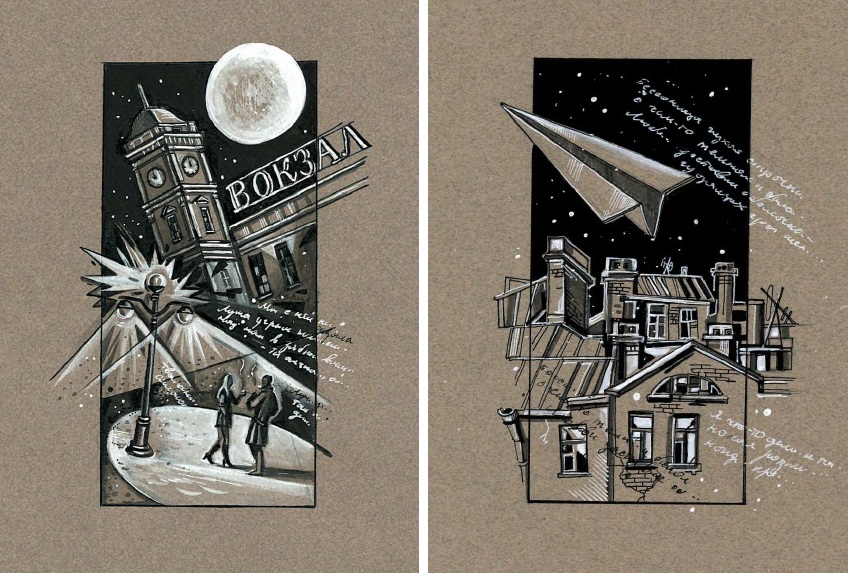
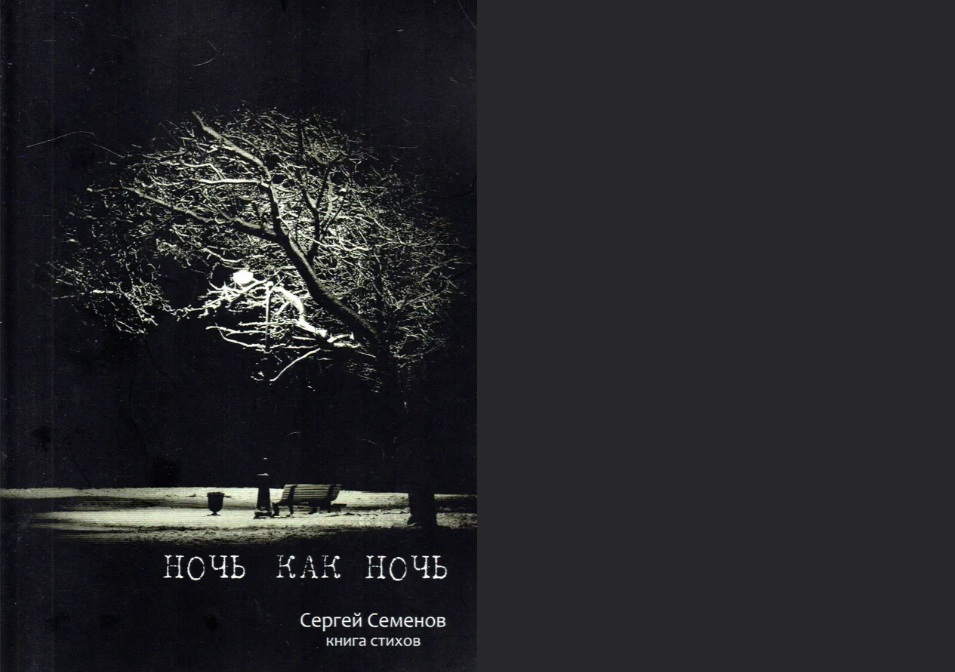
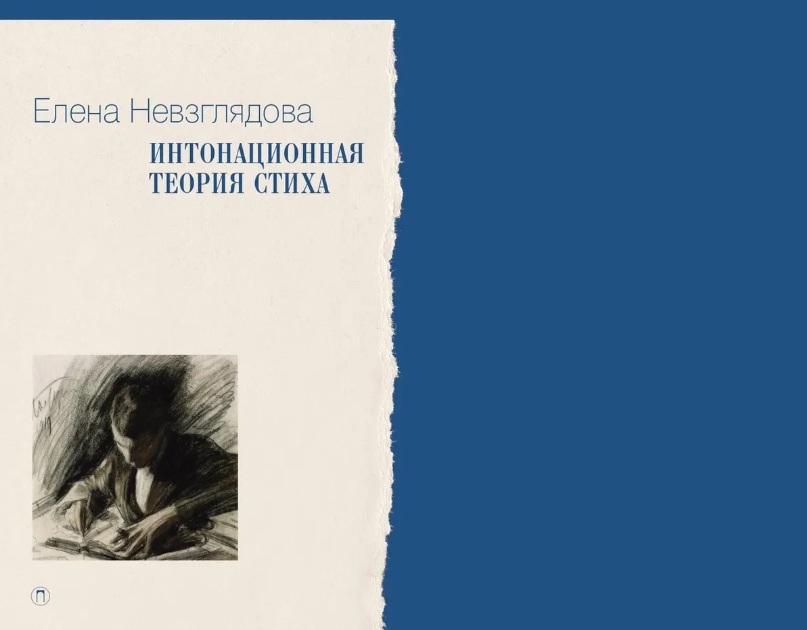
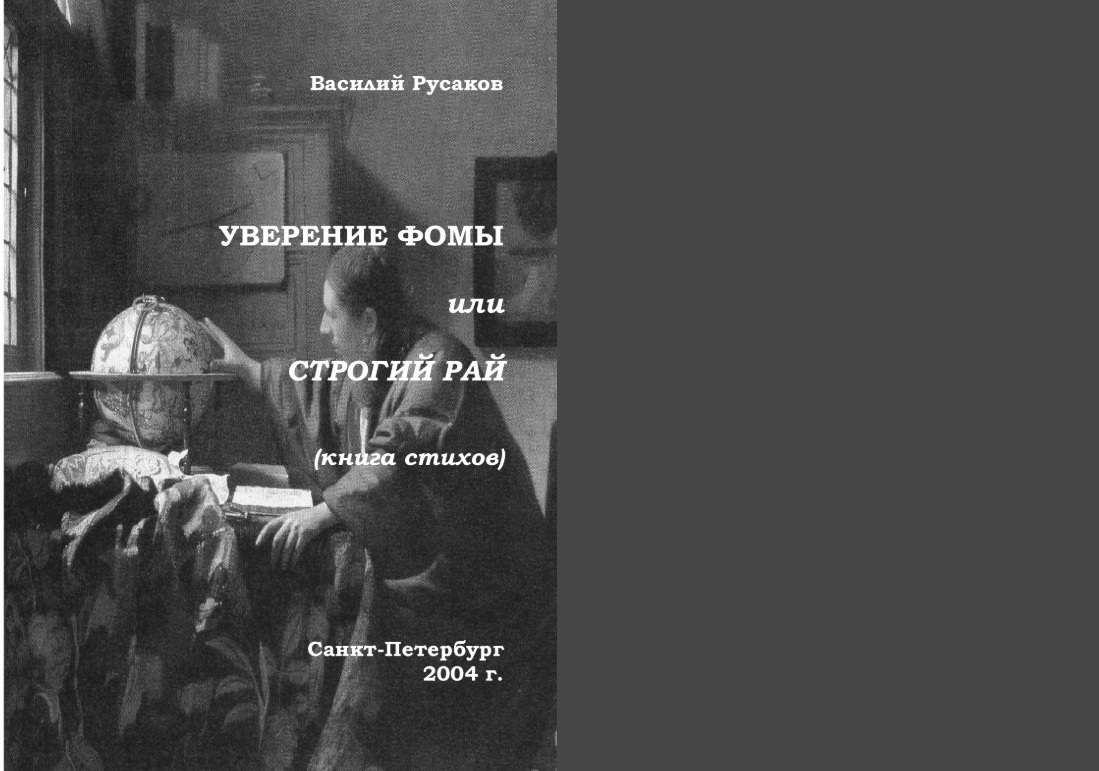
Комментарий (1)
Владимир
Если бы Вергелиса не было, его бы следовало выдумать )