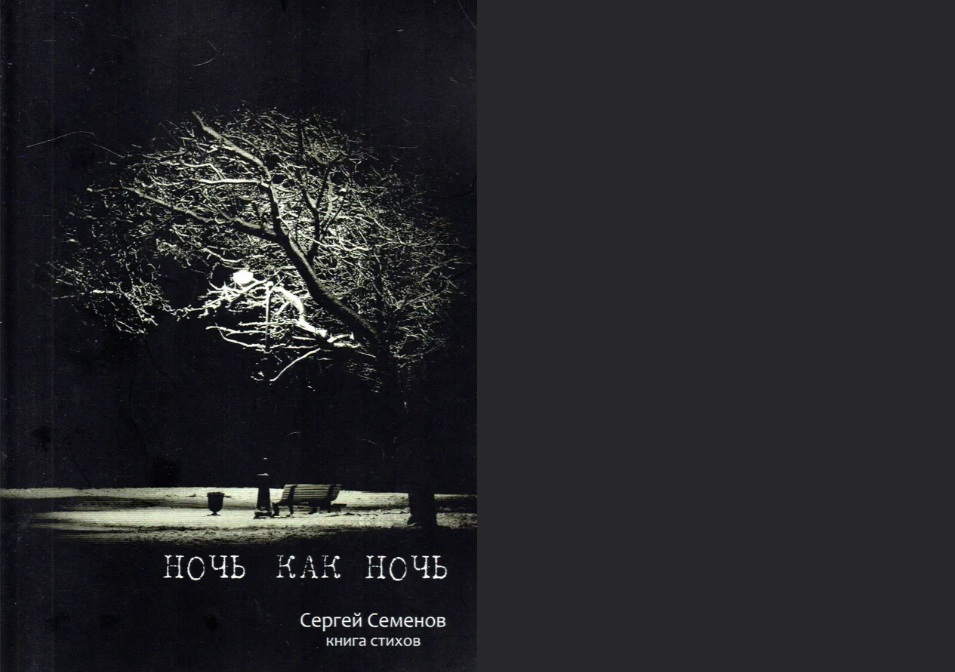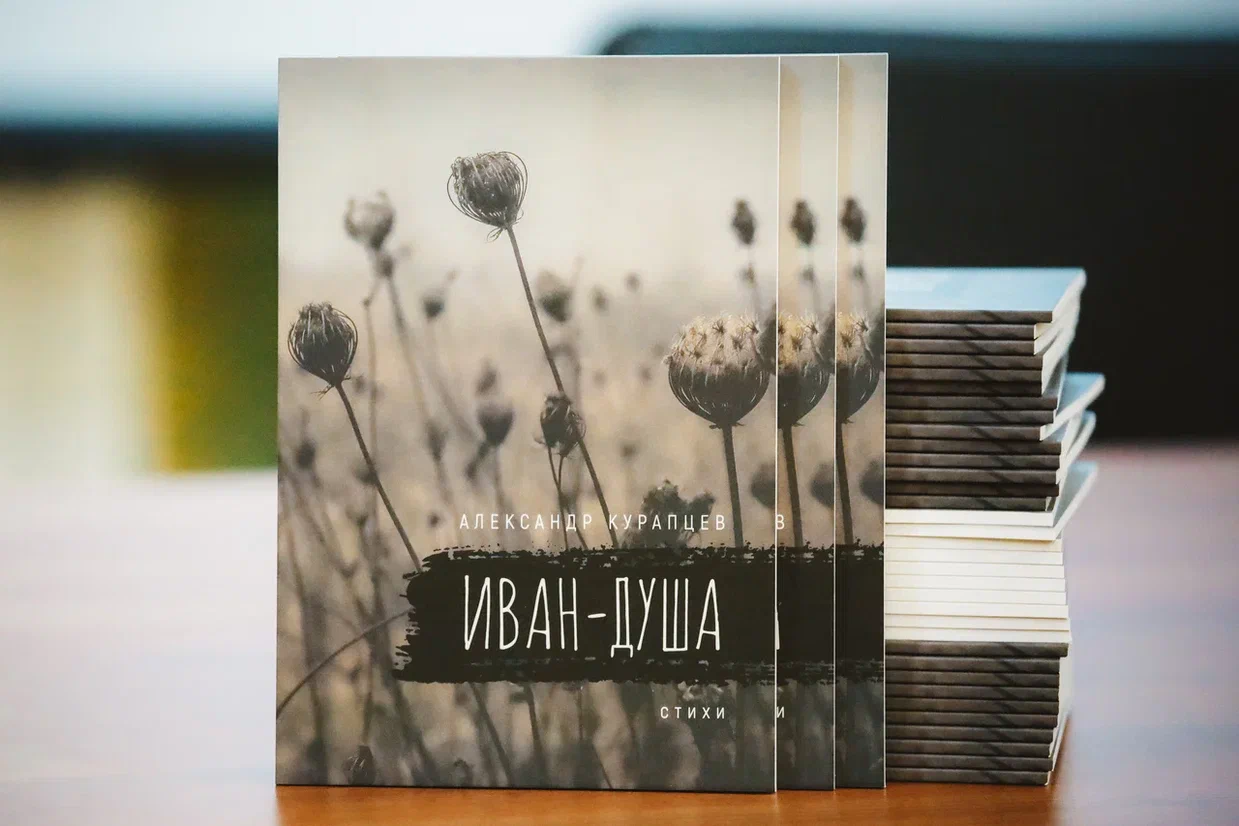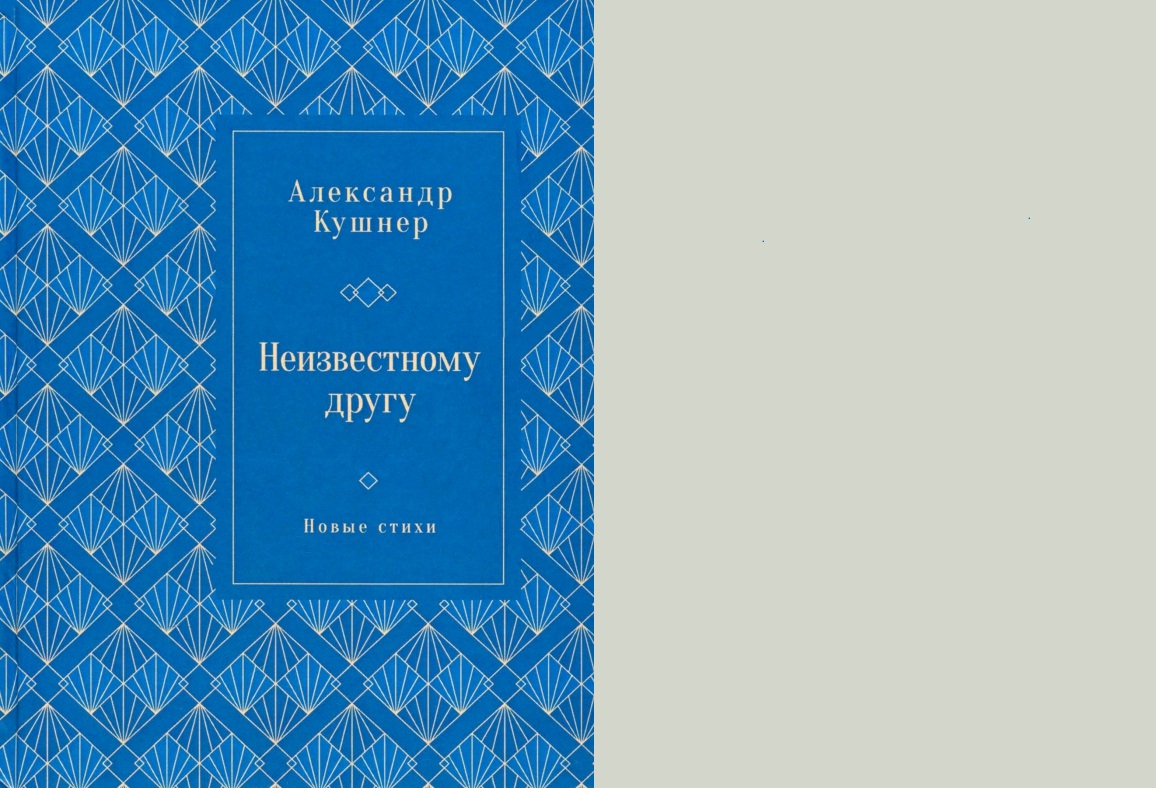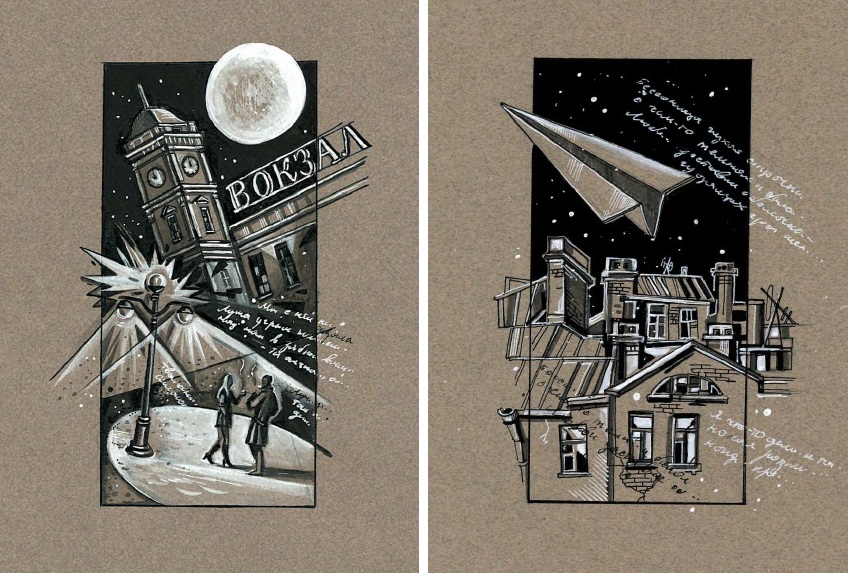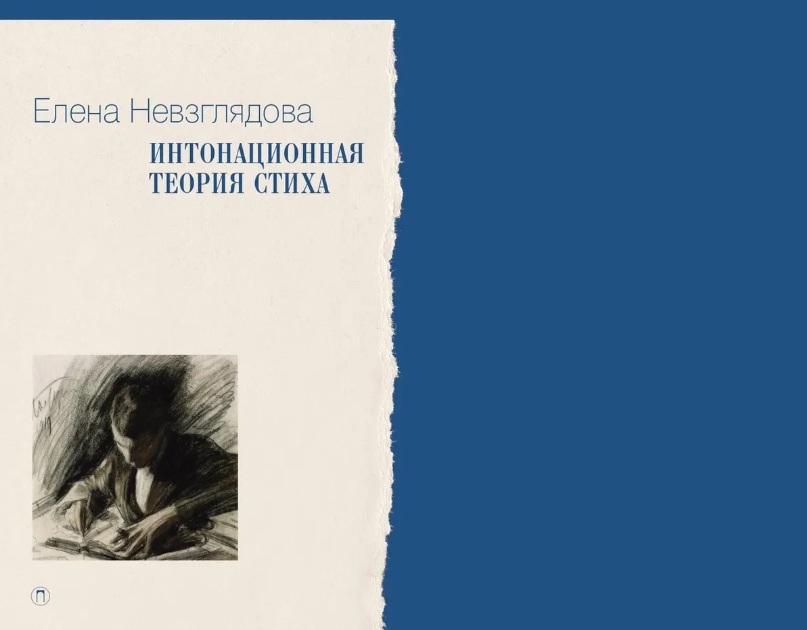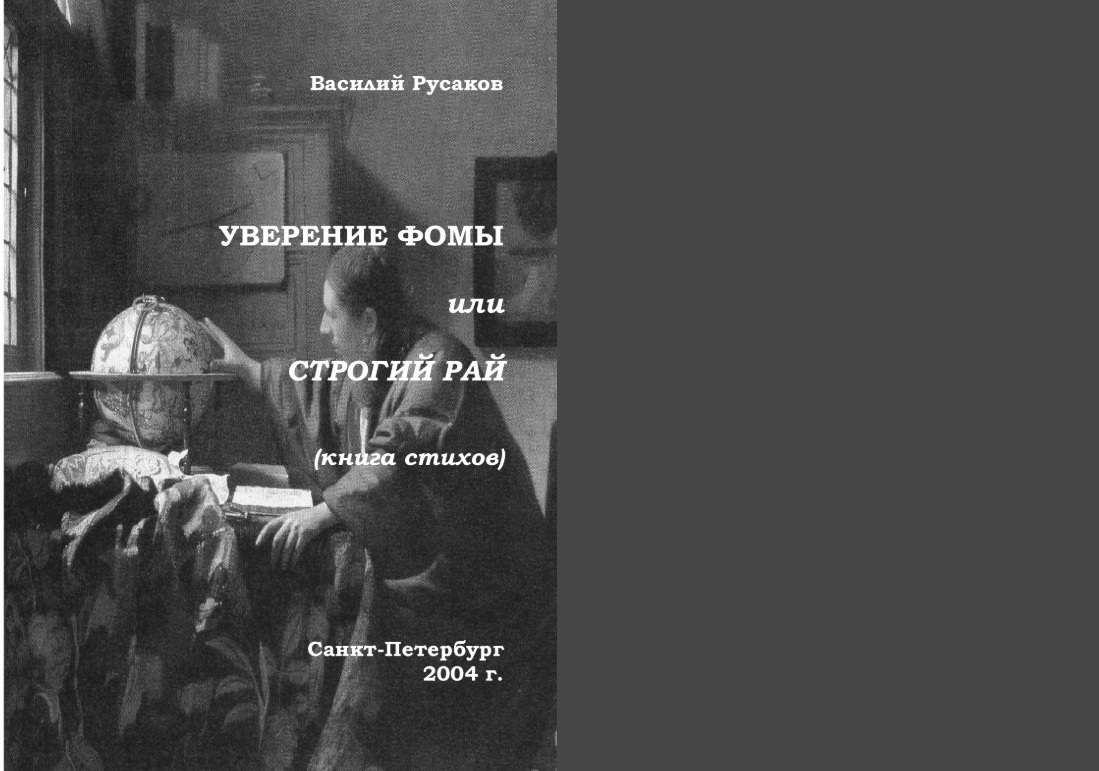Сергей Семенов. Ночь как ночь: Книга стихов. СПб.: Издательский дом «Дескрипта», 2024
Мы проспали поэта. Проморгали, проболтали, пробрюзжали. Выискивая блох, придираясь к незначительному, цепляясь к мелочишке суффиксов и флексий. Проглядели главное. «Почву и судьбу». Почва казалась зыбкой, скудной, судьба заурядной… Да такой, наверное, и была. Пока сама себя не переросла — как и стихи.
Сергей Семенов пишет трудно. Медленно. Выверяя каждую строку, долго и недоверчиво присматриваясь к словам. На ветер их не бросая, но к ветру — вселенскому, блоковскому — прислушиваясь. Потому-то и первая книга шла к читателю так долго. И презентовать ее автор едва успел — попав в короткий временной промежуток между двумя зияниями, почти что вернувшись с того света, и снова — с пулевой печатью на лице — отправляясь туда, откуда можно уже не вернуться. В окололитературных кругах спорят зачем: из чистого ли патриотизма, в попытке ли разрубить гордиев узел так называемой личной жизни, из зудящего мужского желания «испытать себя», из русской лихости, заставляющей ходить по краю… Но, вернее всего, потому, что такова трагическая логика существования нормального романтика.
Этот же романтизм
после тебя задушит…
Если это все-таки романтизм, то он у Семенова черный — как обложка его книги. Ее название, взятое то ли у Блока, то ли у Рыжего, Блока передразнившего, звучит безрадостной констатацией:
Только пыль и безнадежный вызов
Небесам.
Ночь как ночь, и никаких сюрпризов.
Думай сам.
Ночь сплошная, ночь мировая, с робкими огоньками надежды, тонущими в черной бездне. А когда ты долго пишешь о бездне, бездна рано или поздно начинает писать тебя, твою жизнь. И ты добиваешься трагической привилегии «сыграть с пустотой», как сказал о том же Борисе Рыжем один петербургский стихотворец.
Рыжий ушел в двадцать шесть, поэт Сергей Семенов в этом возрасте только начинался — у каждого свое время. Я помню его тогдашнего — только что вернувшегося из армии. В культурном, так сказать, отношении довольно дикого. А в сегодняшних его стихах — настоящее пиршество аллюзий: на Пастернака, на Фета, на Анненского, на Мандельштама. Проживая свои стихи, он уже не может обойтись без Гомера, Данте, Гегеля, Конфуция. Он присвоил себе эти активы по привилегии сопричастного, по законному праву ищущего, думающего. В определенном смысле Сергей Семенов — человек, «сделавший себя сам». Целенаправленно снимавший сливки с мировой художественной культуры, со знанием дела овладевавший контекстом, без которого нормальный современный поэт труднопредставим. Иногда уши классиков слишком торчат, иной раз чересчур навязчиво предлагаются читателю те или иные имена, цитаты. И это, и кажущийся лишним (хотя и небезынтересным) автокомментарий в конце книги прощаешь за авторскую искренность, за безоглядную преданность странному ремеслу соединения слов. И всю семеновскую неприкаянность, все его то ли демонстративное, то ли всамделишное окаянство прощаешь за эти собранные под черной обложкой стихи. Которых, надо признаться, могло быть и больше — то ли поскупился поэт в пользу других, будущих книг, то ли просто поскромничал. Но мы скупиться не будем, процитируем еще одно стихотворение, как бы призывающее новоиспеченного туриста, только что усевшегося в кресло самолета:
…оставь
Все сомненья внизу, распростись с виной
И дела свои сдай в багаж.
Впереди, нам кажется, мир иной —
Бесконечно лучший, чем наш.
Волнующе-приятная поездка за границу становится поводом поразмышлять об иных границах, за которыми герой книги едва ли что-то чает увидеть. Ключевое слово здесь — «кажется». Как бы ни был сладок сон — грядет безрадостное пробуждение, возвращение в земную жизнь, неизменно описываемую Семеновым словами любви и ненависти — то с мрачной серьезностью, то с беспощадной иронией (обращенной в том числе и на себя самого):
В твоих фантазиях все та же ли —
Та, школьная твоя лолита?
Средь тех, что все еще не нажили
Ни опыта, ни целлюлита.
Но вряд ли за порогом зрелости
Мечтал принять из третьих рук ты
Ее видавших виды прелестей
Морщинистые сухофрукты.
«Кажущийся релятивизм мира, вопрос отсутствия объективных ценностных ориентиров, с которого начинается распад» — так в прозаическом послесловии определяет автор проблематику своих стихов. Духом если не отрицанья, то уж, во всяком случае, сомненья — прежде всего сомнения в смысле жизни, в целесообразности существования — мира и своего собственного — одержима муза Семенова.
Ничего не важно, умрешь — умри.
Беспросветной ночи слезу утри.
Чем пустей душа — невесомей грусть.
Ни намека больше — и пусть, и пусть…
Но, как сказал уже цитировавшийся выше петербургский стихотворец, перо поэта вольно или невольно противится «величью пустоты». И перо Семенова — не исключение.
Что дальше? Дальнейшее развитие, обретение новых тем и форм или зацикливание, самоповтор, стагнация и распад? Не будем загадывать. И вопреки обыкновению не будем желать поэту творческих успехов. Пожелаем ему просто вернуться живым.
Опубликовано в журнале “Звезда”, №3, 2024