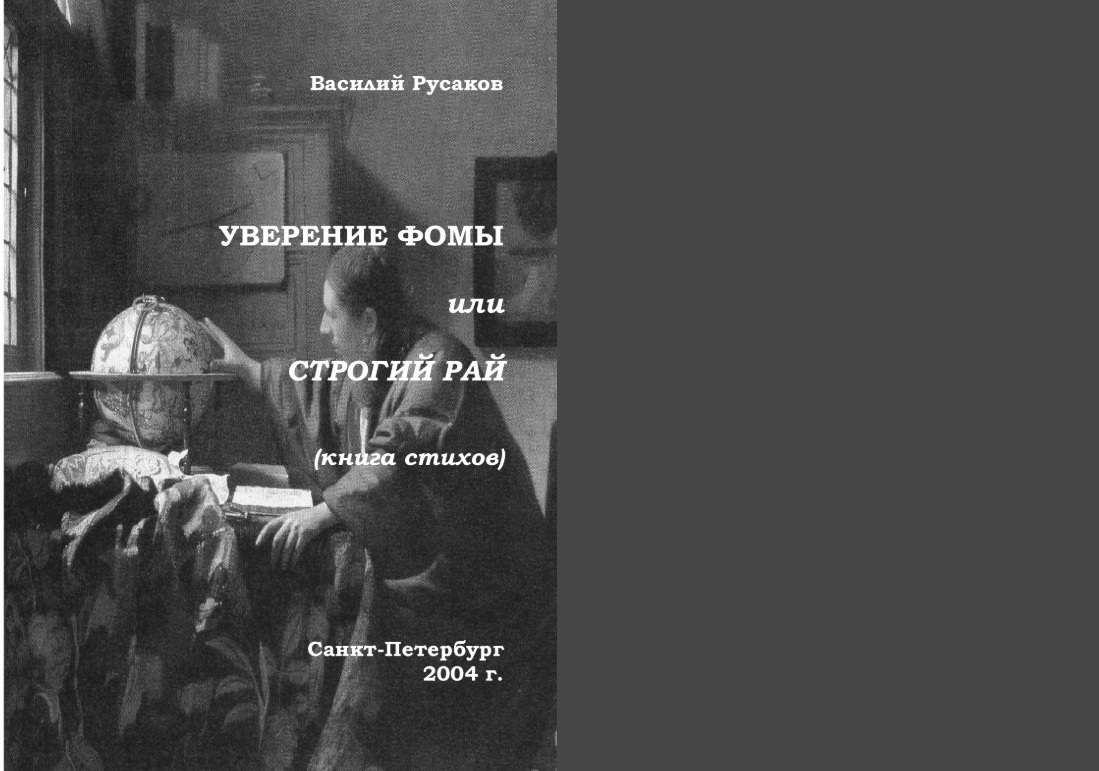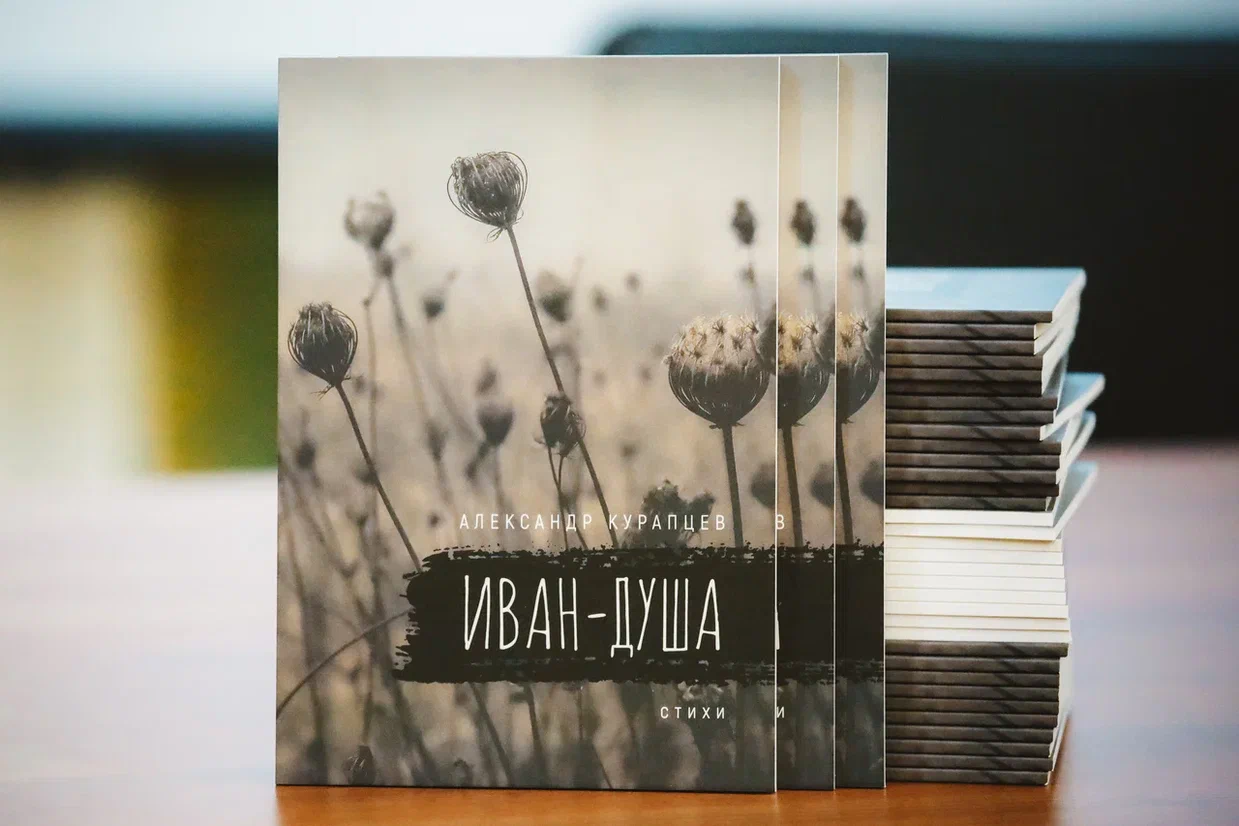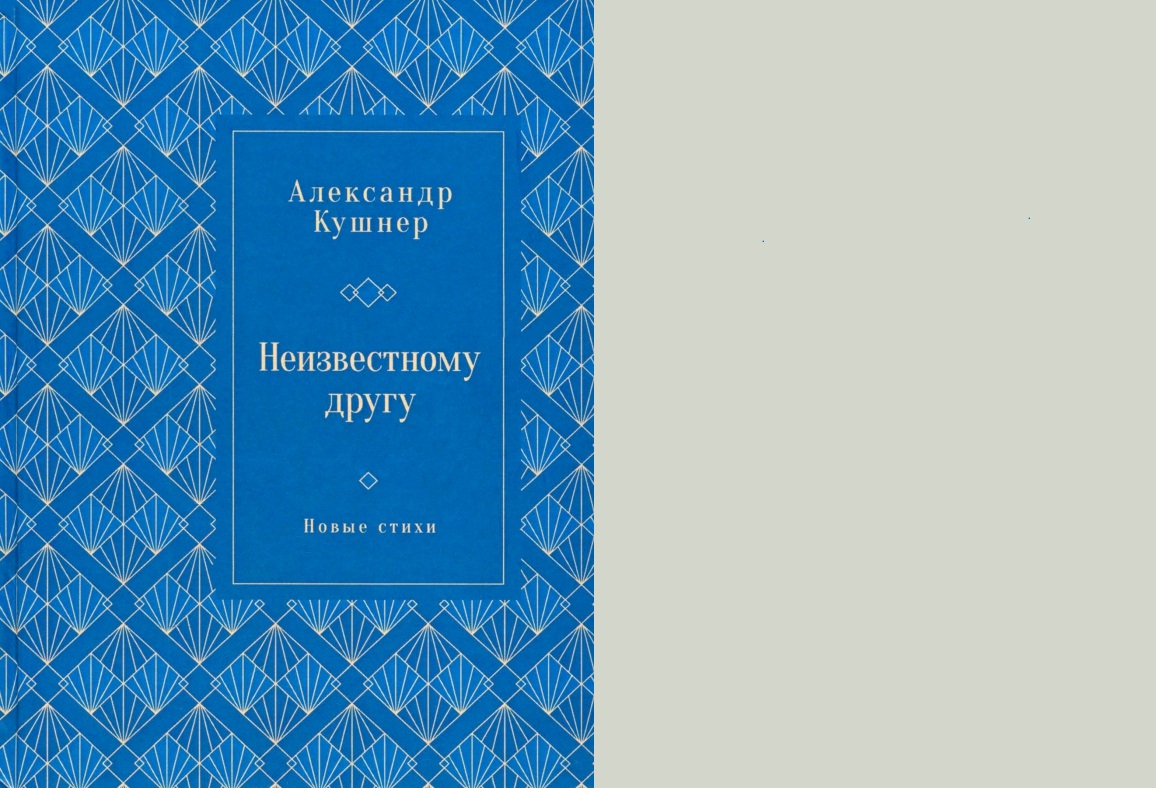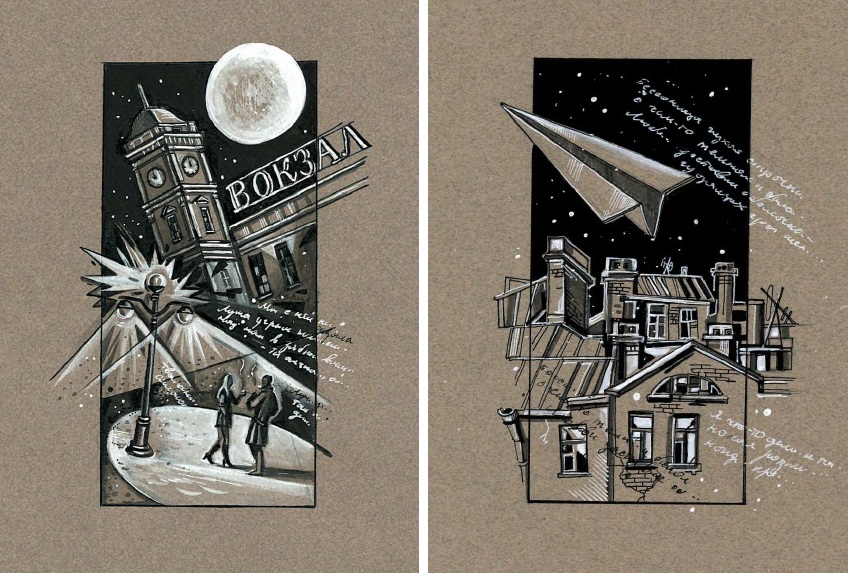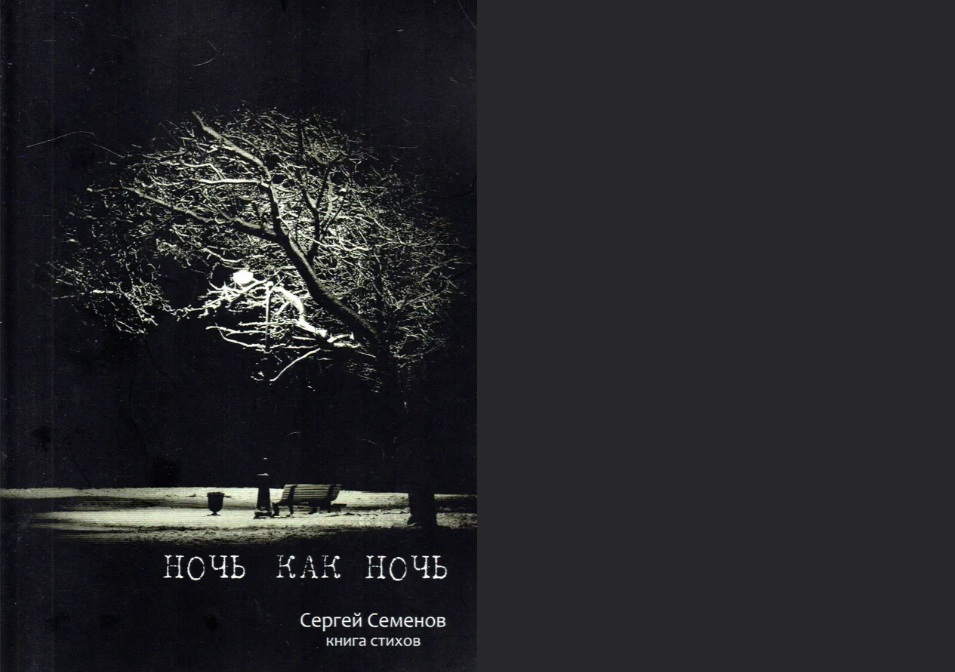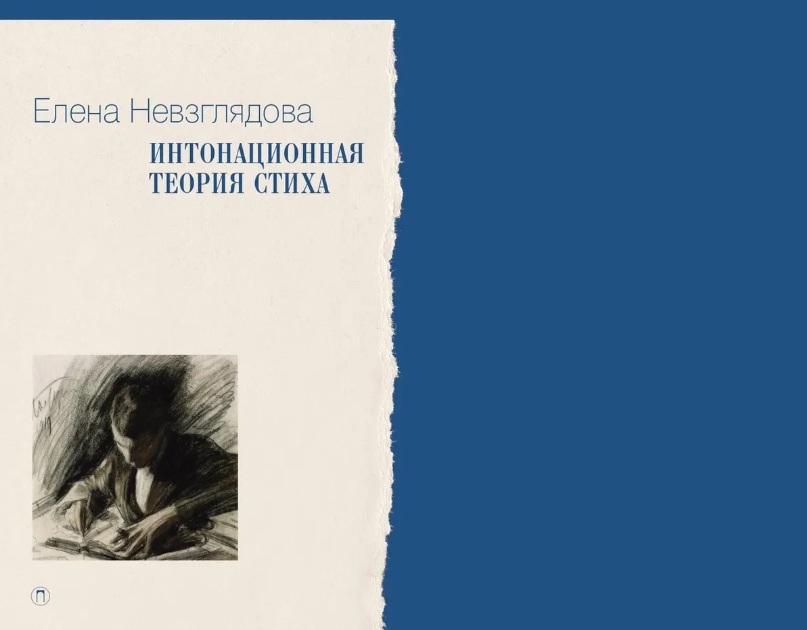Василий Русаков. Уверение Фомы, или Строгий рай. Книга стихов. СПб., “Европейский дом”, 2004, 80 стр. (“Urbi”, вып. 48; серия “Новый Орфей-16”).
Все новое, как известно, — всего лишь хорошо забытое старое. Более того: все новое — это то, что мы всегда как бы знали, как бы имели в виду, не вдумываясь, правда, в содержание своего знания. Не случайно в основе одной из первых гносеологических теорий лежал платоновский принцип анамнесиса — припоминания. Бессмертная душа, “припоминая” то, что уже знала когда-то, заново обретает способность видеть истину. У Евгения Баратынского есть по этому поводу замечательное восьмистишье:
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? Точный смысл народной поговорки.
Я начинаю с рассуждений на эту тему потому, что модернистский критерий новизны, глубоко внедренный в сознание современного человека, часто мешает правильно оценить те художественные явления, с которыми нам приходится сталкиваться. Вольно или невольно (в особенности если у нас нет безупречного слуха, вкуса) мы задаемся вопросом: а что, собственно, нового сказал автор? Разве на эту тему не писали задолго до него, разве этими образами, красками, словами не пользовались? — Писали, пользовались сотни тысяч и миллионы раз. Но ведь и миллионы раз до нас жили, проходя все тот же стандартный в своей основе путь от рождения к смерти — через взросление, социальную адаптацию, открытие давно закрепленных в народном сознании и фольклоре истин, через любовь с ее иллюзорностью и героичностью. Ведь ничего нет банальнее любви, банальнее смерти. Однако каждый переживает их приход как трагическое и возвышающее откровение.
И, видимо, дело не в том, чтобы обязательно зафиксировать какую-то принципиальную новизну твоего взгляда на мир, твоего понимания. Такая очевидная для всех, бросающаяся в глаза новизна возможна, вероятно, лишь как нечто специально сконструированное, снабженное штампиком модерновости, актуальности, короче говоря, существующее по законам моды (предпочитающей умалчивать о своих “дежа-вю”). По-настоящему новое незаметно, понимание совершенного тем или иным человеком смыслового прорыва не дается автоматически. Потому что, как и в случае с “народной поговоркой”, глубокая мысль, так сказать, лежит на поверхности (я сознательно конструирую оксюморон). Это пушкинская способность: легко и просто повторить якобы уже известное, но сделать это так, чтобы внимательный читатель вдруг поразился подлинностью, пережитостью (следовательно, возобновленной смыслоемкостью) того, что казалось трюизмом. Самое сильное потрясение вызывает наложение твоей уникальной жизненной ситуации на то, что считал слишком литературным, общим и потому не имеющим к тебе отношения. Осип Мандельштам хорошо сказал в одном из своих стихотворений: “И сладок нам лишь узнаванья миг…” Новизна, по-видимому, — в обновлении и возобновлении всего того, что имеет отношение к неавтоматическим, следовательно, невозможным с естественной, природной точки зрения процессам: мышлению, например, или самой жизни человека в ее духовной обусловленности.
Мне приходится останавливаться на этом, потому что творчество целого ряда современных поэтов невозможно ни понять, ни оценить без учета вышеприведенных соображений. Их Муза, так сказать, “негромка”. Репертуар тем — обыденный, общечеловеческий: круг семейных забот, скупые жизненные впечатления, любовные неудачи, бремя возраста, раздумья о смысле этой странной тяги к сочинительству, лишенному в наше время всякой социальной статусности1. И в самом деле, кто такой поэт сегодня? — Человек, занимающийся чем-то в высшей степени экзотическим и бессмысленным. Что-то вроде энтомолога, ловца бабочек.
Именно к разряду “негромких” (и “бессмысленных”) поэтов относится Василий Русаков. Даже название его книги — “Уверение Фомы, или Строгий рай” — в своей громоздкой двойственности в некотором смысле традиционно, оно отсылает нас еще к XVIII веку. И уже тут можно заметить некоторую странность: двойные названия давали пьесам, романам, трактатам, но практически никогда поэтическим сборникам. Между тем перед нами именно книга стихов, и ее название довольно точно выражает главную проблему (думаю, что не только для Русакова главную, но и вообще для современного человека): а что, искусство, любовь, духовность — еще живы или они всего лишь иллюзия, фантом, греза, в которую стыдно верить взрослому и неромантически настроенному человеку? Действительно ли воскрес Христос? Действительно ли можно надеяться, что культура все еще существует, что все еще есть что-то настоящее? Первым названием своей книги Русаков отвечает на поставленный вопрос утвердительно. Именно поэтому, как мне кажется, автору потребовалось второе название, уточняющее, конкретизирующее первое: да, Христос воскрес, все есть — но эта “благая весть” не так уж благостна, поскольку предлагаемый нам благодатный, райский путь — весьма строгий, суровый. Ибо в судьбе человека не о счастье идет речь, а о достоинстве (о том, чтобы оставаться человеком), без чего, впрочем, и счастья, скорее всего, не будет.
Вообще зрелость, как известно, ищет не счастья, а “покоя и воли”:
Тополя пахнут прелой листвою,
Всюду мокрый свалявшийся пух —
Это счастье? Я счастья не стою,
Я к нему равнодушен и глух.
Мне достаточно запаха листьев,
Светляка в незнакомом окне…
Впрочем (избежим декларативности), не от хорошей жизни нам приходится довольствоваться немногим:
То, что есть, — то и счастье, и ладно…
От тебя вдалеке, вдалеке.
Тема эта будет подхвачена и развита в одном из лучших стихотворений книги Русакова “Она сбегала вниз, не тронув перил…”. Здесь все построено на удивительном пересечении настоящего и прошлого, в котором тебе давалось самое главное, но ты не знал, что счастлив, потому что был счастлив. Речь идет о странной размерности нашей человеческой природы: мы можем либо быть, либо знать и лишь в исключительно редкие, а главное, непродолжительные минуты способны одновременно удержать два этих параллельных мира бытия и знания. Причина же, скорее всего, в неготовности, в том, что в каждый конкретный момент мы ориентированы на что-то определенное, решающее наши действительные или мнимые (чаще мнимые) сиюминутные жизненные задачи. Судьба же приходит неузнанной и как будто подсовывает нам нечто сейчас не актуальное. Только потом обнаруживается, что искомое было у нас под носом, что мы как раз и владели тем, к чему стремились, не умея опознать его в другой, банальной форме (здесь опять всплывает проблема неновой новизны). Тем самым счастье, как и смысл, и понимание, почти всегда обнаруживается задним числом:
Потом мы разъехались снова на много лет,
Она вышла замуж, не сразу, а так к тридцати,
Детей родила — пребанальнейший, брат, сюжет,
И все хорошо, даже в гости зовет — заходи…
И я захожу и на кухне сижу как гвоздь,
И глаз не свожу с ее черных восточных глаз,
И муж ее, славный мужик, меня видит насквозь
И потчует пивом, и это сближает нас.
Слова последней строки “сближает нас” накладываются на рефрен двух предыдущих строф, перечисляющих, что “сближало” ранее героя и героиню. Все дело, оказывается, в зыбкости, неполноте и принципиальной неузнанности этих сближений. А причина в каком-то трагическом неверии, неспособности вложиться в чувство другого человека, в свои собственные переживания. Нам нужна обязательно внятная для нас в данный момент форма, чтобы ощутить и понять. Словно апостол Фома, мы хотим, чтобы любимая, чтобы сама жизнь предоставила доказательства, которые можно было бы “потрогать”.
И другое блестящее стихотворение книги о том же. Правда, на сей раз никак не договориться, не объясниться — с дочерьми. И опять та же самая ловушка: пережитый опыт вкладывает в твои слова содержание, которое в силу отсутствия этого опыта другие не могут извлечь. Но понимание этой принципиальной неизвлекаемости не снимает с отца ответственности за то, что все потом и произойдет как по писаному, и тебя же еще и укорят, что не сказал. Сказал — да не так, как могли бы понять. А как надо было, чтобы могли? В доступной форме? Но эта доступная форма — увы! — уже, грубее смысла, который должен быть в нее отлит. Все тот же комплекс: новизна, которая обширнее, глубже средств ее опознания. Одной из тем книги Русакова становится парадоксальная невыговариваемость смысла, его какое-то самостоятельное по отношению к слову существование, требующее для того, чтобы состоялась коммуникация, невыполнимых условий. Отсюда грустное понимание, что наши жалобы и признания открыты разве что дождю-ветру-богу, отсюда же и неустранимое чувство вины:
Твой опыт никчемный смешон, отпусти молодежь
Саму набивать свои шишки, саму открывать
Известные истины… И не пеняй никому,
Когда тебя спросят — чего ж ты, родитель, молчал?!
Твой голос как шепот дождя, кто внимает ему?
Наверное, ясень, что веткой в окно постучал.
Я обратил бы внимание на такую важную особенность приведенных выше строк, как достоинство, с которым все эти неутешительные признания произносятся. За стиховой интонацией скрывается человек, к которому невольно начинаешь испытывать симпатию: не суетен, не жалуется, не стремится понравиться, вообще не пользуется известными лирическими средствами привлечения внимания к собственной персоне. Напротив, без всякого кокетства считает себя “обычным, даже скучным человеком” (“Мои стихи мне самому приелись…”). И не потому, что в последней четверти ХХ века модно стало возводить на котурны маленького человека, не потому, что интересно попробовать поиграть в антиромантического героя (отягощенного, несмотря на приставку “анти”, все теми же романтическими комплексами). Стихам Русакова присуще очень редкое, чрезвычайно важное и необыкновенно новое для поэзии нашей эпохи качество: автор совершенно искренне полагает, что свет не сошелся на нем клином, что в мире есть вещи куда более интересные и важные, чем выяснения, кто тут самый талантливый, продвинутый, главный. Он удивительным образом не стремится обозначить и доказать свое пресловутое первенство, без чего совершенно не в состоянии было обходиться индивидуалистическое сознание, косвенно пытавшееся оправдать бесконечную занятость собой, любимым, претензиями на уникальность, талантливость, нинакогонепохожесть.
Перед нами совершенно иная, по сути, постиндивидуалистическая модель мироощущения, в которой, к примеру, мотивировкой занятия поэтическим творчеством выступает не “пророческий дар”, не так называемая гениальность (автор, напротив, перечисляет имена поэтов, пишущих, как ему кажется, лучше него, — что, казалось бы, обессмысливает, обесценивает собственные стихотворные усилия), а… Впрочем, не будем пока конкретизировать, прислушаемся к заключительным строкам упомянутого выше стихотворения:
Твои стихи лишь случай, сдвиг сознанья,
Слепой души рифмованная дрожь.
И что просить за это воздаянье? —
Ты все равно без них не проживешь.
Между прочим, замечательное признание, и, что характерно, замечательное именно с поэтической точки зрения (как хорошо это сказано про “рифмованную дрожь” души!). И очень смыслоемкое, очень точное. Никакого воздаяния, никакого мотива, никакого оправдания достижениями и степенями не требуется, если ты просто не можешь не делать того, что делаешь (более того, это даже нечестно: ждать еще чего-то помимо жизненно тебе необходимого). Проще говоря, все уже обосновано и состоялось, если ты любишь, испытываешь искреннюю благодарность и интерес, как бы исключающий вопрос о внешнем подтверждении (то есть — вспомним название книги Русакова — о необходимости вкладывать персты в кровоточащие стигматы).
“Уверение Фомы…” — книга в том смысле новая, что она по-новому отвечает на злободневный вопрос эпохи — вопрос об оправдании бытия обыденного человека: не бурного гения, не “юноши бледного со взором горящим”, не Поэта, а каждого, живущего в этом мире массового потребления, массового обслуживания, массового обезличивания, массовой культуры. Не пыжиться, не пытаться обязательно первенствовать на скомпрометированной иерархической лестнице социального успеха, а любить и быть самим собой — то есть быть таким, каким тебя создали (Бог, Природа — не важно, это кому как нравится). Не в том задача, чтобы вспахать самое большое поле или сделать это быстрее всех, а в том, чтобы быть в свое время на своем месте и собрать урожай с порученного тебе участка. И не жаловаться, если урожай этот будет скуден и мал. Или жаловаться, но только не на почву, климат или размеры пашни, а на свои недостаточные усилия. Ведь сказано, что “последние станут первыми”, поскольку Бог измеряет наши заслуги не внешним результатом, а степенью искренности и любви. Вот, собственно, о каком достоинстве современного человека написана книга Василия Русакова.
И тут важный поворот темы. “Достоинство”? — Да как его можно сохранить в нашей-то агрессивной социальной среде, когда даже поездка в общественном транспорте чревата унижением и враждебным чувством к себе подобным:
Как, в сущности, важен для нас дискомфорт,
И этот подземный людской хоровод,
И давка на входе, и давка
В железной утробе, в минутных тисках,
И дрожь, и мучительный пот на висках,
И нищая эта чернавка…
Как сохранить достоинство, общаясь с соседом-алкоголиком, клянчащим в долг очередную сотню?
Ну что сказать? — верни, мол, прежнее…
Да разве вспомнит?! Он — готов.
Его душа, как поле снежное,
Где нет следов.
Как вообще удержаться от жалоб, зависти, претензий к судьбе в ситуации социальной и возрастной бесперспективности, когда ни на какие внешние перемены в жизни рассчитывать уже не приходится: самое большее можно шутливо помечтать о “Запорожце” (“Запорожец” смотрит гордо…”) да погрезить об итальянских солнечных видах, листая рекламный проспект (“Перелистай путеводитель…”)? Хуже того, понимаешь, что ни интереса к себе не заронить в молодых и красивых, ни умерших не вернуть, ни губящих свою жизнь близких не переделать. Поразительное есть в книге стихотворение по этому поводу:
Оставь, усни же! Ну чего еще —
Какой поделишься виной?
Я — просто трезвое чудовище,
Стою над жертвою хмельной.
Но и здесь в финале отчаянных строк звучит признание вопреки всему: “Нам хватит счастья, нам останется. / Я успокоился. Усни”. Так получается, что в этом суровом раю на нашу жизнь счастья все-таки хватает.
Характерная черта: все понимая и про “нищую чернавку”, и про соседа-алкоголика, и про улыбчивую Монро с рекламы в вагоне подземки, поэт не зачисляет их в отрицательный баланс. Он способен любоваться даже ругающимися бабами — изолировщицами на стройке (“Всё не отыщут компромисса…”), быть благодарным даже “живому железу” допотопного, барахлящего компьютера (“Лег провод модема под старенький плинтус…”). Счастливое свойство — уметь чувствовать эту легкую, непрочную основу всякой жизни, всякого существования… И, следовательно, жалеть и любить.
Пожалуй, тут-то наконец и находится объяснение, зачем все истинное, живое нуждается в бесконечном тиражировании, повторении, так сказать, возобновлении, и не только мощными усилиями гения, но каждого из нас. — По причине своей хрупкости, смертности, безосновности. Слова забываются, великие произведения искусства истлевают, умирают люди, гаснут светила:
Мелькает черный парк, ничью не помня поступь,
Наступит полный мрак — невероятно просто,
Зачем же ты опять стремишься в эту клеть? —
Здесь есть за что страдать и есть кого жалеть…
Мысль, в общем, не нова, но требует повтора —
Забудутся слова так прочно и так скоро,
И даже ты, душа, скользнешь, как ветра взмах,
Рассыпав по пути наш чувствующий прах.
С эпохи романтизма, а то и раньше — с ренессансных времен — возобладал миф о банальности прописных истин, о тривиальности моральных убеждений, о пресности благонамеренности — все это якобы не годится для творчества. Нам по-прежнему кажется, что настоящее искусство не может обойтись без Ницше, де Сада или хотя бы без Фрейда, что требуется какое-то специальное обострение, особая опасная игра. Между тем нет ничего острей и опасней обыденной человеческой жизни, которую возобновлять приходится со всеми ее истинами и ужасами, надеждами и утратами каждый раз заново, собственными усилиями, так сказать, “вися в пустоте”. Потому что кто же, кроме нас самих, позаботится о том, чтобы все было — мысль, любовь, достоинство и даже само счастье? Кто уверит нас в их наличии?
Природа равнодушно-справедлива,
Всему свой срок, отсрочек никаких.
И с равномерностью прилива и отлива
Уносит время самых дорогих
Людей — и тех, кто жив, но не вернется,
И тех, кто не вернется никогда…
Никто, ничто в живых не остается…
Над головой небесная гряда
Роняет снег — все скрыто, все условно,
Холодный воздух трогаешь рукой,
И хорошо, что так светло и ровно,
Что нет земли под нами никакой.
Опубликовано в журнале “Новый Мир”, номер 7, 2005