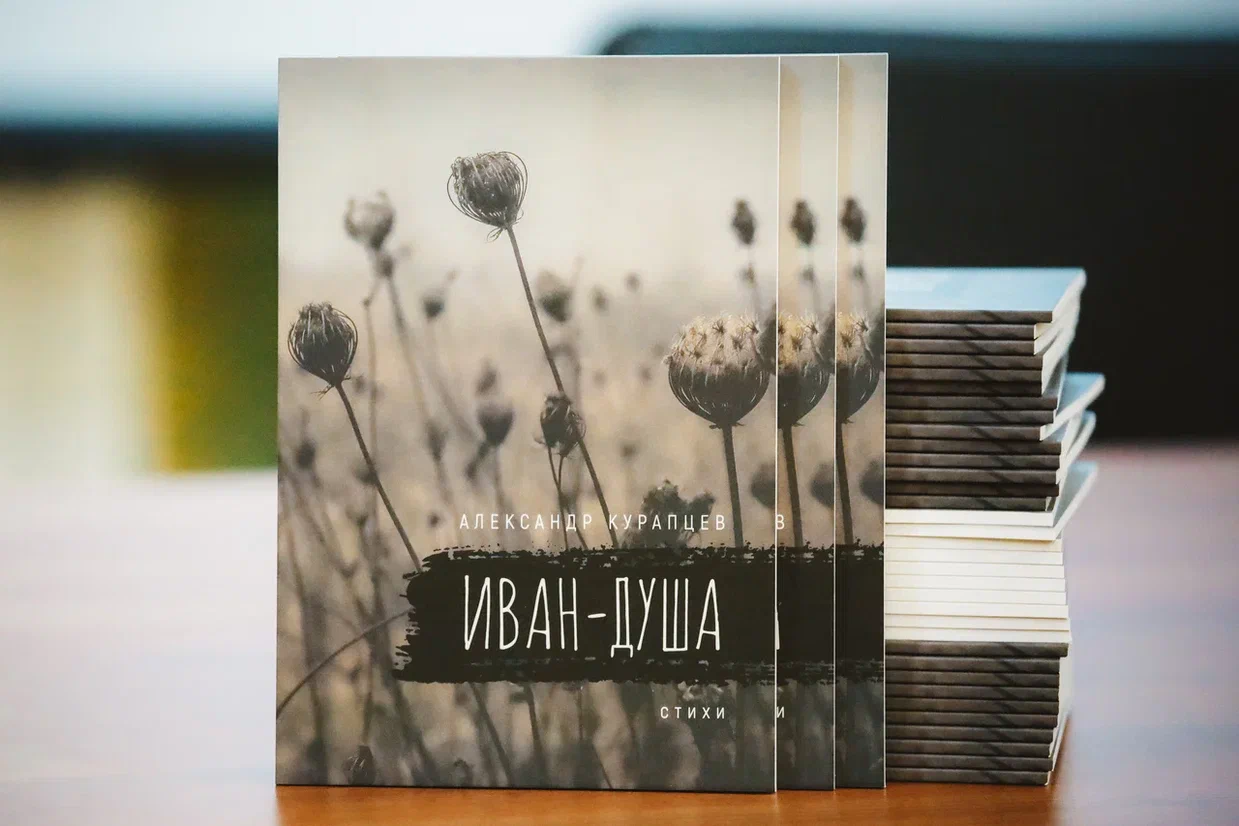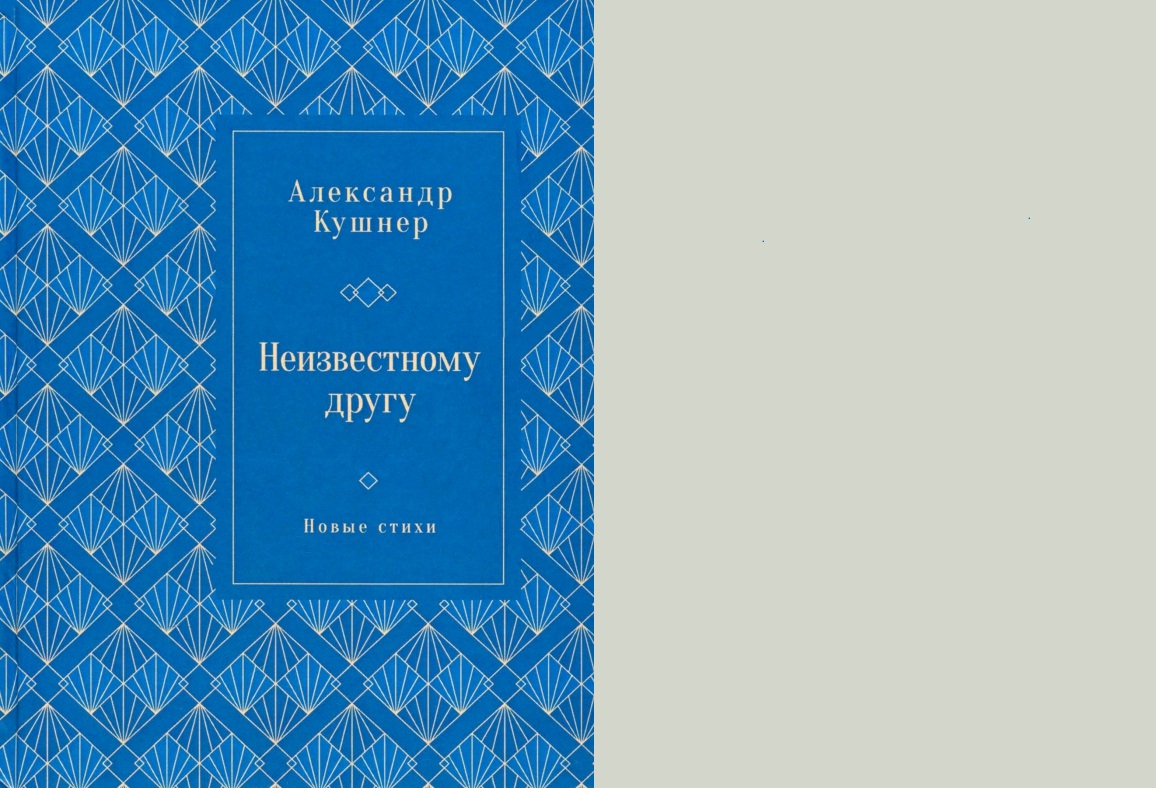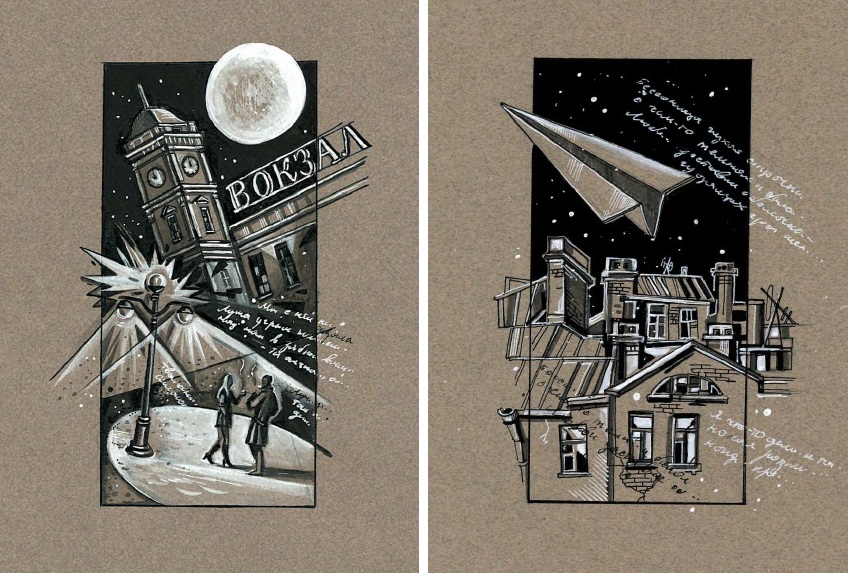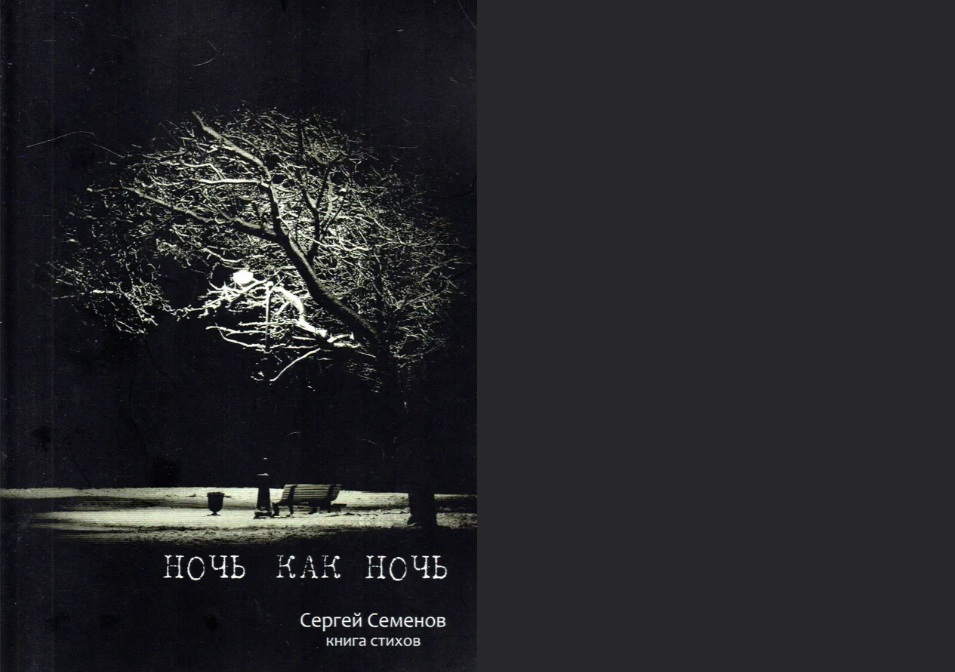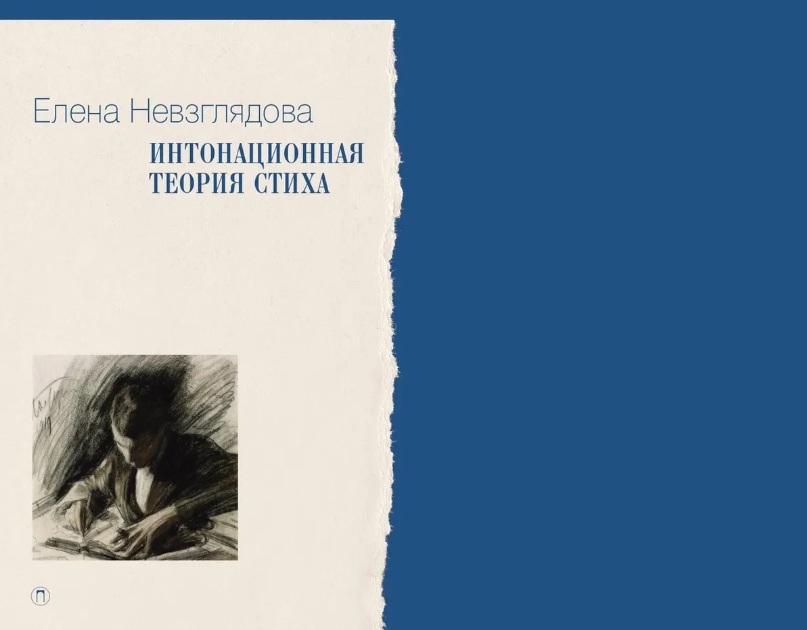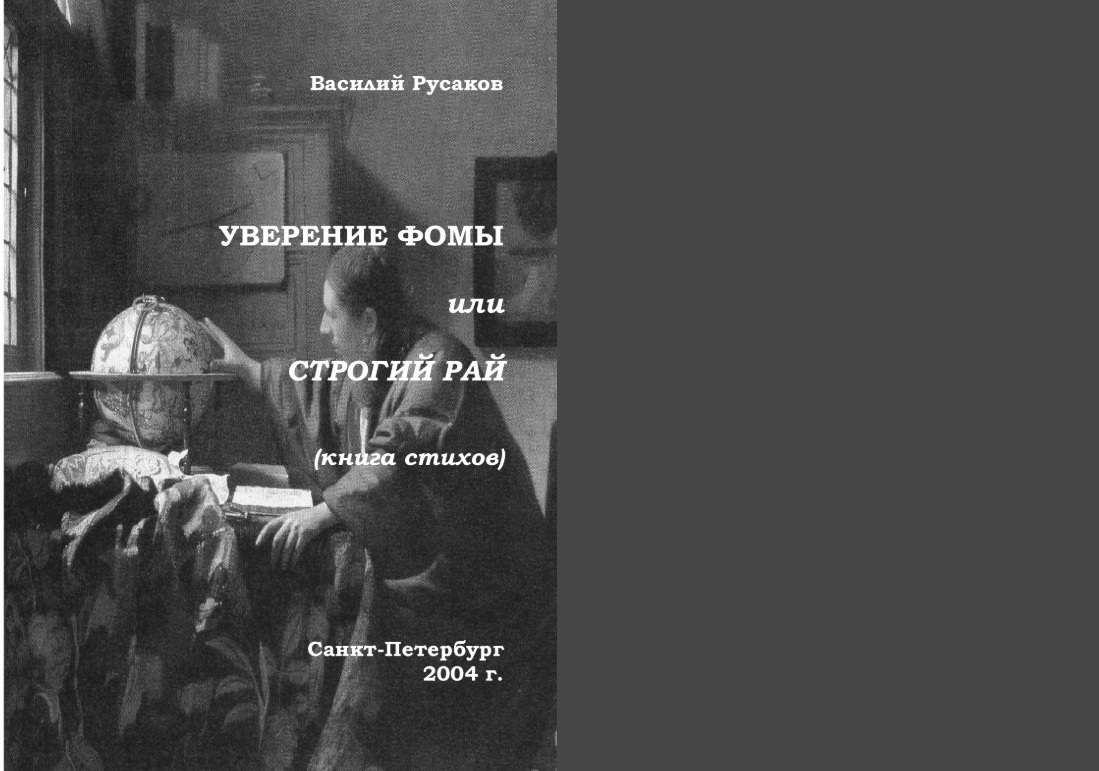В сборнике стихов Александра Курапцева “Иван-душа” (СПб, 2024) пять частей: пять времён года, пять сторон света, пять углов дома. В нём всё так, как пишутся хорошие стихи, и всё-таки что-то пугающе не так. В нём есть знание жизни, чувство слова, мужественная зрелость, творческая свобода – и что-то помимо этого. Что-то слегка раскачивающее созданный автором поэтический мир. То ли колыбель над бездной, то ли катафалк в степи.
Если нужны жизненные объяснения этой особенности, они есть. Поэт Александр Курапцев родился в Донбассе в 1981 году, а значит, пережил несколько социальных землетрясений: распад страны, в которой явился на свет, потом другой, в которой учился забывать первую, потом обретение третьей, в которой идёт война.
В книге представлен поэтический отчёт о прожитой жизни: от момента, когда «младенец ловит небо ртом» до всего, что этот младенец, подрастая, увидит. О самом себе немного, почти ничего, только взгляд – то пристальный, по-детски удивлённо рассматривающий диковинные мелочи бытия («букaшкa, крошкa, куколкa, жучок, / отмычкa, спичкa, ключик, язычок, / дрожaнье звукa, музыкa и ритм…»), то по-стариковски отдалённо видящий мир в целом («a здесь вверху сплошнaя блaгодaть / небесный грaд святые госудaри / до будды и христa рукой подaть / и солнцу улыбaется гaгaрин»), но всякий раз какой-то нездешний, иносторонний, проницающий увиденное насквозь и не объясняющий, как с этим жить.
Смена времён видится тоже в разных ракурсах. Вот вид в целом, обобщающий, как бы испытывающий, насколько поэтично это обобщение, насколько оно скрижально в своей летописной очевидности:
раньше в городе гудели шахты росли терриконы
по выходным электричка ходила москва-петушки
рождались железные люди ржали железные кони
а теперь тут только пустыня буйки да флажки
Но вот взгляд молодеет, становится зорче, жёстче, хлёстче, всматривается в лица и души соотечественников, которые когда-то «собирались во дворах / надували шарики / выходили на парад / куталися в шарфики / пили водовку с лица / с каплями сердечными /за свободу до конца / и до бесконечности», а теперь их как будто подменили:
нынче ходим на парад
в балаклавах шарфиках
кто подонок кто дурак
кто вообще без шарика
по-звериному рыча
будто и не люди
и не любим ильича
никого не любим
Реальнее этой реальности и самого вождя, видится поэту только язык, который «живее всех живых» и который останется, когда построенные миры будут разрушены до основания. Язык, который «нa слове ловит и берёт нa клык», который берет «и мысль, и смысл», и все, что есть в мире, и сам мир – «берёт и человеком говорит». Не «с человеком», а «человеком». Так они работают, эти гаджеты: поэзия, библия, жизнь.
Транслируя трансцендентное, Курапцев виртуозен и разнообразен. Стремясь не оборвать возникающую связь, он трансформирует речь, настраивая её на смыслы, которые не вмещает ни синтаксис, ни семантика. Кажется, что в его текстах, как и в его жизни, происходит распад мира и языка, который замедляется только тем, что не утрачивается смысловая связь, удерживающая стихи от провалов в заумь или околоумие. Они остаются внятны и понятны, только местами, деликатно тронутые деконструкцией, заставляют переключаться на смежные смысловые планы, в том числе и на политические.
Естественность, с какой жизненная реальность в стихах Курапцева превращается в поэтическую ирреальность, вызывает вопросы (в общем-то, необязательные) о степени осознанности автором своей поэтики, и автор предусмотрительно, не раз и не два, отвечает на них, например, так:
я жалок я сделан из жилок и стен
как стебель некрепок и слеп
приходит воркуя господь новостей
приносит сомнительный хлеб
и крошит на камни горелую плоть
чужую мою и свою
в хреновые новости верит господь
и клавиши пальцы клюют
Курапцев – книгочей, но стихийный, свободный. Он природен и самороден, но его, казалось бы, окказиональные приёмы не лишены системности. В них проступают трещины и границы поэтической деформации – то высокая, ветхая, ковчежная парность, то нестойкая, балансирующая бинарность:
- словесно-семантические цепи и слитки («спит-богатырским-сном-богатырь-и-с-ним-богатырский-конь», «про то про сё как жилибыли / как перестали жилибыть») и фантомные обрывы («синее мо», «светлое бу»);
- звукосмыслы («косточка и космос», «кожура и конура», «тернии и тени», «сумма да сума», «ларёк и рагнарёк») и смыслоритмы («и бедный бедный павел павел нервный», «что тебе до камня, если сам ты вода, вода»);
- именные окликания («Полфрейда за коня, полдетства за Эдипа!», «был мужем Дон Кихот, был пацаном Патрокл, и Торин Дубощит был родом из народа, и Кухулин почил, и Щорс, и Моторола») или нарицания («ты спокойный будто будда / будто нетто будто брутто», «рыщет в пыли по следу вещий кудесник-пропп»);
- интертекстуальные мерцания («во глубине донецких руд», «скучно, бес, неизлечимо скучно», «звезда сомнительного щавеля», «без гвоздей не построить людей», «клавиши пальцы клюют», «кто стучится в дверь ко мне / бытие и время», «из Тудырки с приветом») или паронимические трансформации («надень колечко обречальное», «назгуглы правят одиночеством», «не хватайся нервно за стопкарм»);
- совмещение масштабов («В стакане дня темно и сыро, / звенит набат / кофейной ложкой. А над миром / дымит труба…»), смешение времен и культур («Во тьме египетской не видно ни хренa, / тьмa вaвилонскaя густa и солонa, / зaто кaк днём, светло во тьме донецкой…»), смешение вообще всего со всем («нисходит с небa голубь или боинг, / нечистый дух, смешав добро и зло, / вселяется в железо и бабло»)…
Стихотворная кабанистика осложняется символическими и трагическими смыслами. Например, повторяющееся созвучие «дом и дым»: «cмотришь на воду видишь домa и дым», «дома нет и дыма нет». Это важнейшие опорные концепты мироощущения поэта: дом, которого нет («был у меня дом»), и родина, которая в дыму («гонит татарин пленных валит дым от икон», «из Одессы несёт человечиной, над Донбассом клубится дым»), вызывающая в культурной памяти грибоедовский «дым отечества» и тургеневский «дым» заграницы. А еще – библейское объяснение братоубийственной войны, обращённое к праматери, к прапамяти, к родине (Мама, мама, брат мой Авель / пьяный в дым приходит в дом…)
А в центре этого всего – дымящегося, горящего, страждущего – Иван-душа. Как говорится, лирический герой. Или, как уже не говорится, эпический автор.
Стесняясь своей миссии, современный гомер умаляет свои буквы и прописи, но совершает то же, что должен делать эпический автор: умирает в своих героях, чтобы стать голосом своего народа. Упоминаемая им Итака – символ родной земли, жизненного пути, истока и итога: «И всплывает в памяти что-то совсем не то: / головешки, сажа, измятая береста… / у земли два имени тихих – Исток, Итог, / ты растёшь в неё, руки в стороны распластав».
Устремляясь, куда влечет рок (Янка, Г.О., Цой), современный дант то вкалывает «во глубине донецких руд», где «скрежет и рокот», то возносится в заоблачные выси, где «кружат ангелы», а он «ещё не жив, уже не мёртв». Его эпика мифологична (Харон, Ахеронт, Лета, Эвридика), а его путь похож на бред («по кронам фонарей, по крышам, / по парапетам, по крестам / дремучим сном, летучей мышью»). Это реальная жизнь, но и воображаемый побег – «сквозь гладь бумажного листа».
Следуя за своей звездой, современный гоголь перемещается из окаянной окраинной Тудырки – через летаргический Ленинград («он повсюду теперь – этот город по имени Ленинград») – в не менее призрачный Петербург. И там, в искажённом, нет, исхоженном русской классикой пространстве, приходит осознание авторской идентичности: «и я шагал не ощущая тверди / и мне казалось это после смерти / бредёт моя донецкая душа / и мёртвый питер смотрит не дыша». Донецкий поэт, не переставая быть им, становится русским больше-чем-поэтом.
Александр Кораблев, доктор филологических наук, профессор Донецкого государственного университета